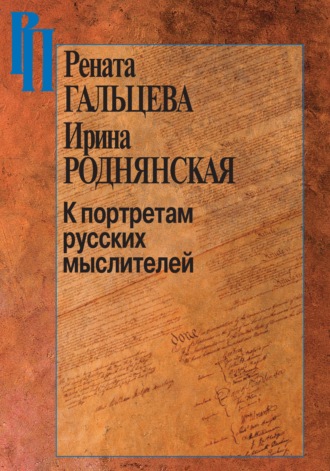
Рената Гальцева
К портретам русских мыслителей
Не надо думать, что каждый раз слово Соловьева падало исключительно на каменистую почву. Так, на своем диспуте он встретил приветственный отклик среди аудитории, восхищавшейся самим ристалищем, блеском мысли и речи героя дня; «было нечто молодое в этом настроении <....> в смысле чистоты души и первой умственной жажды», – цитирует С.М. Лукьянов свидетельство Н.Н. Страхова260. Еще до этого события, в 1873 году, Соловьев познакомился с Достоевским, к которому он, несмотря на разницу в возрасте, обратился «на равных» – как к общественному деятелю, единственно способному понять его задачу261. В дальнейшем знакомство перешло во взаимообогащающую дружбу, которая длилась до конца дней писателя, так что смерть Достоевского осиротила Соловьева, но не прервала этого идейного союза – одного из немногих уцелевших в череде принципиальных столкновений философа со средой.
Надежда на общественное понимание могла также возникнуть у молодого Соловьева в годы борьбы балканских славян за независимость и русско-турецкой войны, когда социальная жизнь в стране консолидировалась вокруг идеальной цели, вокруг новой, освободительной роли России и, как казалось тогда Соловьеву, вокруг ее посреднической миссии между Востоком и Западом. Сказанная им в заседании Общества любителей российской словесности речь «Три силы» (1877), где утверждалось вселенское религиозное призвание России, прозвучала в унисон с тем подъемом, который испытывала молодежь, добровольно идущая на войну (тогда, кстати сказать, стали сестрами милосердия две близкие Соловьеву девушки – Е.В. Романова (Селевина) и Е.М. Поливанова262).
Однако магистраль этого и последующих десятилетий пролегала таким образом, что всё, готовое откликнуться на проповедь Соловьева, оказывалось на обочине, а силы, определяющие исторический путь, выдвигали навстречу ему одного противника за другим. Альтернативу, которую Соловьев предложил обществу в своих «Чтениях о Богочеловечестве» зимой-весной 1878 года (символично, что «Чтения…» начались через день после покушения Веры Засулич на генерала Трепова и завершились одновременно с окончанием ее процесса), – отвергли как левые, все усиливавшие свою террористическую борьбу с властью вплоть до цареубийства 1 марта 1881 года, так и правые, в лице слушателя «Чтений…» Победоносцева уже в этот момент опознавшие в лекторе опасного модернизатора православной веры. Так, симметрично лагерю Михайловского, вооружается против мыслителя лагерь К.П. Победоносцева – В.П. Мещерского, и борьба с этим станом за свободу совести заполнит собой один из продолжительных актов жизненной драмы Соловьева.
Кульминация драмы – это вмешательство Соловьева в смертельную схватку между революционным террором и самодержавием, когда он обратился с увещевательным словом сразу к обеим сторонам, пытаясь вдохнуть в каждую из них веру в чудо примирения и пророчески предупреждая о необратимости момента. Мало кто отмечает, что в марте 1881 года Соловьев произнес не одну, а три речи, касающиеся первомартовского события. Он выступил перед молодежной аудиторией (13 марта на Высших женских курсах, а также в Петербургском университете) с метафизическим и моральным осуждением террора как возврата в «зверское состояние»263, а 28-го в зале Кредитного общества прочитал лекцию, которая была обращена не только к присутствующим, но, по сути, и к престолонаследнику. Текст этой легендарной лекции не сохранился, и изложение ее существует в разных передачах264. По ряду оснований265 нам представляется наиболее адекватным свидетельство тогдашнего студента Н. Никифорова. Как сообщается в его воспоминаниях, Соловьев говорил: «… как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. “Помазанник Божий”, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, вспомнив, о душе преступников и передав их в ведение церкви, единственно способной нравственно исцелить их <…>»266. Небывалый нравственный акт, идущий сверху, от царя как ревнителя веры, смог бы, по мысли Соловьева, предотвратить кровавую гражданскую войну в России и стал бы исходным образцом «христианской политики», преодолевающей разделение между личной и политической моралью. Надо ли напоминать, что речи Соловьева оказались гласом вопиющего в пустыне, но, как засвидетельствовало то же будущее, нежелание его услышать было куда менее благоразумным, чем его кажущееся донкихотство.
Отныне, отторгнутый официозными охранителями, Соловьев вскоре изгоняется уже из самого родственного ему круга, к которому он тоже обратился с инициативой, непереносимой для недавних единомышленников. Этим кругом, более того, его гнездом были при начале пути Соловьева старшие славянофилы – Аксаковы, Киреевы, газета «Русь», Славянский комитет в Москве. Их-то он понуждал додумать заветную мысль о русском призвании в мире. По логике Соловьева («Великий спор и христианская политика», 1883), на земле Правда не может победить без преодоления розни внутри ее самой, и Россия – могущественная православная страна, не поглощенная до конца «византизмом», должна начать дело воссоединения восточной и западной Церквей, увидев, наконец, на противоположной стороне не одни только заблуждения. Это было сочтено изменой отечественным политическим интересам (упирающимся в панславизм), равно как и религиозным идеалам («русской вере»). Взаимное непонимание сторон обозначилось тут не только в конкретном вопросе о «великом споре» (двух Церквей), но и в вопросе «христианской политики» (то есть политики, руководствующейся христианской моралью267). Для Соловьева выбор в пользу «естественных интересов», а не «высшего призвания» был чистейшим язычеством, а безусловная защита религиозного традиционализма свидетельствовала об эгоистической привязанности к своему в ущерб истинному. Славянофилы же обвиняли Соловьева в оторванности от почвы, от коренных нужд страны, а значит, в недостатке «любви к ближнему» и, более того, в подрыве православия, тождественного народному телу России268. «Грех славянофильства, – подытоживал Соловьев несколько позднее, – не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще больше возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает»269. В сущности, Соловьев в ходе полемики поставил вождей тогдашнего славянофильства перед выбором между христианским универсализмом и национальной идеей, связанной с христианством лишь относительными узами. Оппоненты Соловьева, в особенности же те, кто наследовал уходящим со сцены маститым деятелям, выбрали второе, полностью уступив своему противнику мечту о «всебратской» миссии России. Отныне семейный спор со славянофилами переходит в тягчайший для душевного мира Соловьева поединок с «национальной партией» Н.Н. Страхова, М.Н. Каткова, А.С. Суворина. Его пророческое одиночество достигает предельного напряжения, и тылом его оказываются «попутчики» – люди и группировки, равнодушные к его духовным целям.
Внешний ход этих перемещений уловлен в очерке Е.Н. Трубецкого: «Пока оно (славянофильство. – Р. Г., И. Р.) было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в идолопоклонство – он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве»270. Однако суть дела была более трагической: свои не познали своего, а союз с «чужими» – с либералами-западниками из «Вестника Европы», с зарубежными католическими кругами – не шел дальше общности в защите гражданских прав и свобод, в борьбе с официозной политикой Синода. Но и тут Соловьев не удержался в границах злобы дня и отважился поднять эти вопросы на метафизическую высоту, обратившись вновь к единоверцам – на сей раз не с увещеванием, а с обличением. Неслыханный вызов, прозвучавший в реферате «Об упадке средневекового миросозерцания», прочитанном в 1891 году перед аудиторией Московского психологического общества, заключался в том, что Соловьев отказывался признавать связь между христианской жизнью и принудительным укладом, исторически для нее традиционным, и предлагал связать ее с ценностями либерализма, которые до сих пор считались внехристианскими и даже враждебными Церкви. Он едва ли не впервые в истории очертил получившую будущность в XX веке программу социального христианства, которое берет ответственность за благоустройство общественной и природной жизни. Хотя Соловьев, как и десять лет назад, увлек своим порывом часть публики, его выступление было неприятным сюрпризом для тех либеральных союзников, кому вопросы веры казались простым балластом, охранители же, которым «реферат» адресовался в первую очередь, пришли в ярость, найдя в нем нечестивый бунт против освященного порядка.
Присутствовавшая на лекции сестра философа М.С. Безобразова так описывает реакцию зала: «Взрыв бешеных аплодисментов с одной стороны, несмелое, невнятное шипенье с другой.
– Пророк, пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.
– Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается… Против правительства, против законного порядка… Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих, красных ищет… Чересчур смел – надо бы ему рот закрыть…»271.
Одиночество Соловьева усугубляется – после реферата его покидает в гневе последний друг и восторженный поклонник из правохристианского лагеря, К.Н. Леонтьев; до этого соловьевское тяготение к католичеству Леонтьева нисколько не смущало, признания же относительной правды за либеральным гуманизмом он вынести не смог. Ужаснувшись поступку Соловьева: «К кому он пойдет теперь?» – Леонтьев этим восклицанием довольно точно охарактеризовал положение Соловьева после очередного разрыва с окружением.
Леонтьев оказался прав – как в том, что новую соловьевскую проповедь «иезуиты не примут»272, так и в том, что религиозно индифферентные прогрессисты не станут последней пристанью христианского мыслителя. «Три разговора» и включенная в них «Краткая повесть об антихристе» (1899—1900) свидетельствуют, что Соловьев к этому времени уже не ищет «имеющих уши» последователей среди современников и как бы через головы их обращается в будущее, предупреждая об относительности и ненадежности прогресса, о нарастании в мире зла, против которого достижения цивилизации сами по себе бессильны. Здравомыслящие либералы-позитивисты теперь получают все основания, чтобы отнестись к нему как к отступнику. Лукьянов приводит характерную для этого круга оценку пути Соловьева, высказанную К.А. Тимирязевым: вся его «деятельность представляет три полосы: начальную, мистико-метафизическую, вторую, к сожалению слишком кратковременную, – критико-публицистическую и третью – снова метафизическую с еще большим оттенком мистицизма. <…> мистический туман снова стал заволакивать эту светлую голову, – мы услышали побасенки про антихриста»273.
Это был финальный акт в драме одиночества Соловьева, закончившейся его ранней кончиной на грани двух веков. Но есть и перспективный эпилог: немногочисленная плеяда ближайших друзей и последователей все-таки окружала философа в последнюю, предсмертную пору его трудов. Здесь было посеяно зерно, из которого выросла русская философия XX века, чье просветительное слово разнесется по всему миру. Несмотря на изоляцию Соловьева среди современных ему враждующих партий, после его смерти стало обнаруживаться, что он явился плодотворным посредником между провúдениями Достоевского и мыслью, рожденной в катастрофах нового столетия, и что наследство его, пусть и не вполне понятое, ощутительно присутствует в дальнейшей жизни общества. Этим, в частности, был недоволен цитированный выше архиепископ Антоний: «Вся плеяда наших профессиональных лжецов: братьев Трубецких, Розановых, Петровых, Семеновых, вся эта наперебой лгущая компания – плоды соловьевской декадентщины и, по большей части, его ученики и приятели»274. Набор имен – наряду с Трубецкими и В.В. Розановым, досаждавшим тогда критикой церковных установлений, «левый» священник Г.С. Петров и поэт-символист, мистический народник Л.Д. Семенов – тут достаточно случаен и определяется текущим днем. Но момент сдвига и развития в религиозно-философской мысли, которая возвращалась тем самым в состав мысли общественной, – этот творческий момент, несомненно, уловлен, хотя и недружелюбным оком. Без этого выхода из неподвижности, инициированного Соловьевым, не было бы и той «действительной заслуги», за которую его все-таки хвалит суровый оппонент, признавая за ним «высокие идеи исправления полуязыческой европейской культуры началом моральным»275.
Задача подобного «исправления» представлялась Соловьеву, настолько безотлагательной, что – в виде эксцессов, углублявших драматизм его судьбы, – толкала его к глобальным утопическим замыслам. Чувствуя подземные толчки истории, Соловьев спешит собрать мир под крышей христианства и не останавливается перед апелляцией к внешним организационным средствам достижения мировой гармонии. Речь идет о неожиданной – к концу 80-х годов – перемене ракурса в вопросе о соединении Церквей и преодолении раскола между православием и католичеством.
В книгах «История и будущность теократии» (1887) и «Россия и вселенская церковь» (1889; по цензурным условиям была издана во Франции: «La Russie et I’Eglise Universelle») мысль Соловьева соединяет обе половины христианского мира, Восток и Запад, на новый лад: вероучительная, собственно церковная сторона представлена у него римским первосвященником, мирская власть со всей ее геополитической мощью – русским православным царем, вверяющим себя духовному водительству папы; но притом такая массивная двуединая высшая власть должна сообразовываться и с духом свободы, чьим выразителем оказывается третье лицо земной «троицы» – пророк, так сказать, харизматический вождь христианской общественности. Несмотря на сказавшуюся и здесь верность Соловьева либеральным приобретениям Нового времени («пророк», обеспечивающий соблюдение прав человека), это мироустройство восходило к средневековым представлениям о «священной империи»276 (недаром Соловьев как раз тогда увлекался трактатом Данте «О монархии»), и выношенная мыслителем еще со времени «Чтений о Богочеловечестве» идея «теократии» (боговластия) из сверхисторической, запредельной цели, по существу, превращалась в посюстороннюю задачу установления всемирного государства. Любопытно, что Константин Леонтьев с его имперскими идеалами и ненавистью к либеральному уравнительству сразу зажегся этим фантастическим планом, отмахнувшись от «сентиментальных» обещаний всеобщего примирения, но высоко оценив открывающуюся за ними перспективу – сделать Россию орудием приведения мира к железному порядку: «… Скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки, как советует нам зря Вл<адимир> Серг<еевич>, а положут лоском всю либеральную Европу к подножию папского престола: дойдут до ступеней его через потоки европейской крови». И тогда, продолжает Леонтьев, «скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном” <…> на это ответят: “Тем лучше. Это трогательно”»277.
Сам же Соловьев, разумеется, не предполагавший проливать ради осуществления своего проекта «потоки крови», взялся хлопотать о нем в качестве одного из исполнителей будущей триединой власти перед двумя другими – папой и русским императором. Нужно ли говорить, что эти немыслимые хлопоты были тщетны, но можно также быть уверенным, что отмечаемое всеми биографами разочарование Соловьева в своем замысле всемирной теократии произошло не исключительно под влиянием такого неуспеха, – неотделимость христианства от свободы, как ведущий принцип мировоззрения, перевесила в душе реформатора соблазн скорейшей гармонизации мира извне. В литературе о Соловьеве преобладает мнение, что разочарование это привело его к полнейшей катастрофе, к отказу от взгляда на историю как на осмысленный поступательный процесс и к мрачным пророчествам о близком конце бессильного человечества, совершенствовать которое невозможно, да и не нужно.
Однако на самом деле Соловьев вышел из испытания, связанного с заманчивой и несбыточной реорганизацией мира, не сокрушенным, а очистившимся. Он ищет и в поздние годы находит новое соотношение между временным и надвременным, между повседневным делом христианской цивилизации и эсхатологическим завершением истории. В мае-июне 1896 года он пишет своему французскому корреспонденту католику Евгению Тавернье: «Надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее —справедливость<…>»278. И тут же Соловьев излагает новый «план христианской политики» в свете евангельских пророчеств о конце мира. Человечество, рассуждает он, должно быть подготовлено к последнему противостоянию добра и зла в том смысле, чтобы каждый человек мог сознательно и свободно совершить свой выбор за или против Христа. А значит, существует поле конкретной деятельности «для настоящей концентрации христианства» – создание условий как в сфере общественной жизни, так и в области умственного и духовного просвещения, при которых такой личный выбор не мог бы оказаться плодом недоразумения или случайности. По мысли Соловьева, победа христианства в метаистории, обещанная в Новом завете, не предполагает «пассивного ожидания» и не будет просто результатом внешнего чуда, «актом божественного всемогущества», «ибо в таком случае вся история христианства была бы излишней»279. Как видим, в конце жизни Соловьев освобождает свою заветную идею Богочеловечества – взаимодействия человечества с Богом – от бесконфликтного благодушия и придает ей высшее напряжение перед последним актом истории: «Очевидно, что Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве»280. Напомним также, что предсмертная апокалиптическая «Краткая повесть об антихристе», в которой принято видеть полный отказ от участия в истории, включена Соловьевым в сочинение «Три разговора», где ведется речь о проблемах мирского общежития, полемика с Львом Толстым по вопросу о непротивлении, обсуждение ближайших международных прогнозов и т.п., интерес к чему был бы бессмыслен, если бы Соловьев не ставил развязку истории в некую зависимость от всех этих забот.
Изживаемый Соловьевым утопизм питался из двух источников, возможно, характерных для русского национально-исторического сознания вообще. Первый из них – нетерпеливое желание встретиться лицом к лицу с правдой без отсрочек и промежуточных ступеней. Эта черта Соловьева видна даже в его ранних оккультно-спиритических увлечениях, позволявших, как ему чудилось, непосредственно удостовериться в сверхъестественной реальности, «Обрадовавшись, что нашел метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в спиритизм», – иронизировал по этому поводу Страхов в письме к Л.Н. Толстому281. И, конечно, торопливое составление схем вроде теократической «троицы» исходило не столько из рационалистического склада его ума, сколько из жажды отыскать быстродействующие рецепты для воцарения правды. Вторым источником того же уклона в утопизм можно было бы назвать «метафизическую доверчивость», то есть неготовность к действенному присутствию злой воли в космической и человеческой жизни. В ранних построениях Соловьева недолжное состояние мира есть результат нарушения бытийственной иерархии, следствие ложной перестановки ее элементов, что поправимо на путях природной эволюции, к коей на последнем этапе подключается человечество. Человеческая история хоть и чревата срывами, но движется не трагическим путем. После крушения теократической мечты перед взором Соловьева, так же как перед взором героя его позднего сочинения – Платона, «раскрылась бездна чистого, беспримесного зла»282, безусловного злого начала, действующего в истории. Но в отличие от античного философа, который понадеялся изгнать зло из человеческого общежития при посредстве тоталитарной утопии, Соловьев на полпути отказался от подобного выхода. Его завещанием стали не «Законы» и «Государство» (как у Платона) с их образцовой несвободой, а «Оправдание добра» и «Краткая повесть об антихристе», где обнаруживается и трагическая глубина грядущего поединка со злом, и ценность любого малого шага к добру, свободно совершаемого в повседневности.
Проповедь Соловьева имела глубокие корни в том, что открывал и удостоверял ему внутренний опыт. Торжество гармонии было для него не отвлеченной идеальной целью, а непосредственным переживанием, даже предметом созерцания, порой невыносимо контрастирующим с плоскостью окружающей жизни. «Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности сама по себе совершенно не интересует». «Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит на себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего»283. Подобно герою Платоновой притчи о пещере, он жил своими мистическими встречами с высшей реальностью во всем совершенстве ее форм, «верил в ближайшее соседство надземного мира»284, и эмпирика бытия представлялась ему сразу и мертвенно-косной и призрачно-бледной. «Я не только верю во все сверхъестественное, – писал молодой Соловьев Н.Н. Страхову, – но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человечества, которое давит домовой»285. «По сравнению с нездешним миром, наполнявшим его душу, – как бы подхватывает ту же мысль Е.Н. Трубецкой, – наша жалкая действительность вызывала в нем или скуку или грусть, а иногда – настроение, близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом»; «казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положения и случаи, которые в других вызывают только улыбку»286. О смехе Соловьева, заразительном, стихийном, даже «неистовом» («впереди него, если можно так выразиться, катился его неистовый смех»287), – вспоминают едва ли не все, знавшие философа.
Одни называют этот смех детским, другие – загадочным, а третьи ищут в нем оттенок двусмысленности. Но разгадку найдем у самого Соловьева, в его самобытной теории смеха, о которой мы узнали благодаря Е.М. Поливановой, записавшей его лекцию на Высших женских курсах в Москве, и Лукьянову, опубликовавшему в своей книге этот замечательный конспект. «… Характеристическая особенность человека, – неожиданно сообщает Соловьев, – заключается в том, что один человек имеет способность смеяться. Эта способность чрезвычайно важна и лежит в самом существе человеческой природы, а потому я определяю человека как животное смеющееся. …Человек рассматривает факт, и, если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики. …Человек может быть также определен как животное поэтизирующее и метафизирующее». И далее Соловьев изображает «человека смеющегося» стихийным платоником, который как бы от рождения помнит, что подлинный мир – не здесь. «…Человек принадлежит двум мирам: миру физическому, который к нему ближайший и который он считает призрачным, и миру истинно сущему, который не есть данный, но только требуемый и желаемый. <…> Животные принимают мир таким, каков он есть, для человека же, напротив, всякое явление есть только маска, за которой он ищет неведомую богиню»288.
Среди свидетельств о соловьевском «смехе» можно найти и такое, где связь его с философским идеализмом выражена еще парадоксальнее. Старший знакомый Соловьева И.И. Янжул вспоминает, как тот расхохотался при рассказе о нелепой гибели рабочих, очищавших канализацию. На недоумение, что же здесь смешного, Соловьев заметил: «… здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить <…>»289. Разумеется, в этом демонстративном хохоте заключалось больше вызова солидному собеседнику, чем равнодушия. Но, вообще говоря, платоническое пренебрежение к здешнему миру «призраков», действительно, соперничало в душе Соловьева с христианским приятием мира – падшего, но достойного спасения. Верх при этом одерживала христианская интуиция. Между безразличием мудреца-идеалиста платоновского толка и «чудачествами» надмирного Соловьева существует, по словам Е.Н. Трубецкого, «резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, как говорит Платон, “чуждым семенем”, случайным гостем в здешнем мире. Его идеал – полнейшее отрешение, бегство от земли. <…> Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к “земле-владычице”. Цель и конец его поэтического и философского вдохновения – не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного божественным»290.
«Преображение» – этим словом для Соловьева выражается главное задание по отношению к земле, природе, материи. «Кажется, ни у кого из современных Соловьеву христианских мыслителей не было в такой мере выдвинуто положение, что “мир во зле лежит”, и это, несомненно, давало его системе ее захватывающую широту и ее прочувствованную серьезность»291, – замечает Л.М. Лопатин. Но для Соловьева это не значит, что мир затронут злом по существу, ибо в прообразе он всеедин, совершенен и прекрасен, как прекрасна София Премудрость Божия, олицетворение этого прообраза, предносившееся Соловьеву в таинственных созерцаниях292. Ужасен же мир только в своем преходящем состоянии, которое рисовалось мифопоэтическому воображению философа в виде мук «мировой души», всей стенающей твари, рвущейся ввысь, навстречу Софии – своему небесному двойнику.
Один из последователей Соловьева Г.А. Рачинский пишет: «Для Соловьева вся история космической жизни была одной великой драмой борьбы и страданий мировой души, раздираемой хаосом качественно различного, раздробленного и распавшегося природного бытия, с его множеством обособленных и борющихся за свою эгоистическую обособленность, взаимно самоутверждающихся в своей исключительности начал»293. Эту мятущуюся одушевленность сущего Соловьев прозревал «под грубою корою вещества», и все, что наполняет мир, представлялось ему только внешне порабощенным и омертвленным, но живым в своем самобытии и ждущим вызволения. «Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева294: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса – “все полно богов”. Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы – в движении волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственною жизнью леса и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой – средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные. <…> В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь – корень того необычайного подъема душевного, который вызывается у него созерцанием ее красоты <…>»295.
Красота – удостоверение присутствующего в непостоянной земной жизни божественного света и наглядное обещание, что мир может быть совершенным. Соловьев, по замечанию одной тонкой наблюдательницы, «опьянялся красотой». Ибо красота была для него не просто услаждением внешних чувств, а «иносказанием» небесной гармонии, собирающей мир в живую целостность. В его опьянении красотой выражал себя платонический эрос, устремленный к двум посюсторонним символам Софии – «образу возлюбленной или родины» (замечает в своем капитальном исследовании Е.Н. Трубецкой)296.
Мировой процесс со всеми его ступенями трактуется в эстетических сочинениях Соловьева («Красота в природе», 1889, «Общий смысл искусства», 1890) в виде восхождения к красоте как абсолютной норме бытия. «… Развитие природы для него – беспрерывно совершающееся, а потому – несовершенное и незаконченное откровение иной, сверхприродной действительности»297. Соловьев даже в годы зрелого творчества дорожил доставшейся ему от юношеского «дарвинизма» идеей естественно-исторической эволюции, поскольку здесь ему виделся залог того, что природный мир живо, хоть и неосознанно, откликается на поставленную свыше задачу совершенствования. Как на продолжение того же процесса смотрел он на человеческую историю: в центре ее – явление Богочеловека, не только «сшедшего с небес», но и вызванного на землю ее собственным развитием298, а в финале, к которому приведет богочеловеческое сотрудничество, – преображенная по образу красоты вселенная.
Что же это? Безумная задача? Несбыточная надежда? И не согласился ли он сам на роль Дон Кихота и поэтического фантазера, заранее объявив, что цели его «неблагоразумны»? Но ведь оповещал он тут не о романтическом произволе и не о своевольном изобретательстве. Неблагоразумие это открывало горизонты, скрытые от мудрости «века сего», оставаясь в границах которой человечество рискует провалить свои ближайшие дела и сбиться в выборе текущих решений.
Близкие к Соловьеву люди считали порой, что он обрек себя на заведомое непонимание; восхищались его независимостью, но скорбели о ее неизбежных последствиях. Л.М. Лопатин писал: «… его философские идеи для огромного большинства русского образованного общества оставались закрытою книгою. В них скорее видели выражение чудачества очень капризного, хотя и очень большого ума, нежели серьезное порождение философской мысли <…>»299. (Если не чудачество, то необъяснимую странность находил в Соловьеве и Розанов, вовсе не представитель «огромного большинства».) В очерке Е.Н. Трубецкого читаем: «…он был, есть и остается до сих пор непонятым почти всеми. … Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие»300.





