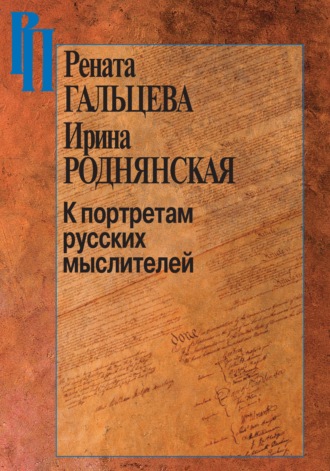
Рената Гальцева
К портретам русских мыслителей
Независимо от лично дружелюбных отношений с идеологами «абсолютного» консерватизма (Достоевского с Победоносцевым, Соловьева – с Леонтьевым) ни писатель, ни философ в поисках исхода не могли успокоиться: морально – на потустороннем, а исторически – на прошлом. Так успокаивал себя Победоносцев, который отвечал на все провокации истории мумифицированием старых оболочек и соблюдением правил благочестия, или Леонтьев с его «трансцендентным эгоизмом»120, освобождающим от ответственности за общее положение вещей и позволяющим созерцать игру преходящих форм обреченного, в принципе, мира с незаинтресованной позиции естествоиспытателя и эстетика. Но те, кто уязвлен коренным трагизмом истории, не станут искать в прошлом незыблемой опоры, а в ходе времен – эстетического зрелища; их мысль будет судорожно перебирать вехи всемирно-исторической жизни в поисках роковой ошибки.
Еще во всех деталях не проведено сравнение тем, двигаясь в пределах которых, Достоевский и Соловьев пытались представить себе в конце семидесятых годов генеральный путь истории; еще предстоит пристальней разобраться в скрещении и расхождении мыслительных ходов, прорытых в ту пору каждым на предельной исторической глубине. Но нельзя не удивляться их конгениальности в этой сфере. Попытки установить, кто на кого влиял, кто первый высказал ту или иную мысль, а кто – подхватил, как правило, приводят к неопределенным результатам. Так, казалось бы, рассмотрение судеб человеческих сквозь призму евангельского рассказа о трех искушениях Христа (Мф. 4: 1—11) не могло родиться в Поэме о великом инквизиторе (Книга пятая «Братьев Карамазовых», писавшаяся в 1879 году), если бы Достоевский не слышал историософской экзегезы этого эпизода весной 1878 года на финальных «Чтениях о Богочеловечестве»121. С другой стороны, известно, что Достоевский думал над соответствующим местом из Нового Завета давно, говорил о нем в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы122, с увлечением разъяснял его своим корреспондентам123, и не исключено, что беседовал о том же с Соловьевым в первые годы их знакомства. Однако систематическая форма изложения, неотрывность этого теологического сюжета124 от всего замысла «Чтений…», наличие звеньев, отсутствующих в «дневниковых» размышлениях писателя125 – все в свою очередь свидетельствует о том, что Соловьев готов был независимо от Достоевского увидеть в тех искусительных пропозициях «страшного и умного духа»126 аллегорический ключ к мировому процессу, к «историческим противоречиям человеческой природы на всей земле»127. В данном примере суть не во взаимных влияниях и даже не в том, что обоим было свойственно облекать свои умозрения в образный язык Евангелия; главное и исходное – что история для них движима изнутри: свободным решением человека избрать высшую или низшую ценность. И отсюда: исторические беды человечества объясняются выбором низшего в себе – иначе говоря, падением.
В одном и том же 1877 году, в преддверии и начале русско-турецкой войны, проникнувшись, должно быть, единым ощущением скорого исторического поворота («видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации»128) и дав волю своему одинаковому философскому вкусу к оформлению картины бытия принципом тройственности, – сначала Достоевский (в январской статье «Дневника писателя» о «трех идеях»), а затем Соловьев (в речи о «трех силах» на апрельском заседании Общества любителей российской словесности129) предложили русской публике такой взгляд на тысячелетнее течение истории, согласно которому именно теперь, по прошествии веков, пробил час России как обновительницы мира. Доныне великие идеи цивилизованного общества, начиная с католицизма и кончая атеистическим материализмом, зиждились, как это представляется нашим мыслителям, на ложном выборе – на отказе от высших прерогатив человеческого духа. Славянский же мир во главе с Россией исторически еще не подпал «искушениям», он весь в потенциальности. Поэтому именно Россия способна исполнить «завет общечеловеческого единения <…> в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера <…>» (Достоевский)130 – «дать средоточие и целость разрозненному и омертвелому человечеству через соединение его с божественным началом» (Соловьев)131. В этой всемирной посреднической задаче и заключается, согласно обоим, «национальная идея русская» (Достоевский)132.
Опять-таки, помесячная очередность этих высказываний не столь важна, потому что у Достоевского и Соловьева здесь налицо общий исток: раннеславянофильские мечты о том, что Россия не последует по уже пройденному Западом и скомпрометированному пути и что в ней – последняя христианская надежда европейского человечества, чьи прежние ставки уже биты.
Однако сходные рассуждения обоих преемников «классического» славянофильства окрашены разной интонацией и по-разному идейно аранжированы. Достоевский в «Дневнике писателя» мыслит скорее геополитически, Соловьев – религиозно-метафизически. «Три идеи» у Достоевского – это три сменяющие друг друга мира: католический, протестантский и, надо думать, православный, – которые представлены тремя великими нациями (Францией как государственной преемницей папского Рима, Германией и Россией) и, совпадая с этими национальными ареалами, поочередно приводят к упадку одного из них и возвышению последующего. Здесь не предполагается единого и преемственного процесса, и третья, всеразрешающая, «русская идея», хоть на нее и возложено объединение народов, не обещает, однако, синтеза их «идей». Чувствуется зависимость Достоевского от поразившей его книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»133 (автора, чьим оппонентом в восьмидесятых годах станет Владимир Соловьев): на протяжении истории народы и культуры соперничают друг с другом, и вытесненные фактически не оставляют после себя вклада в историческое будущее. У Соловьева же «три силы» – это две противоположности, подлежащие примирительному синтезу с помощью третьего начала; бесчеловечный Восток, абсолютизирующий Бога за счет человека, и безбожный Запад, абсолютизирующий человека за счет Бога, взаимно восполняют свою половинную правду при посредничестве славяно-русского национального типа благодаря его бескорыстной восприимчивости к высшей истине, готовности послужить вселенскому делу и отсутствию, так сказать, исторической специализации. По сравнению с январской статьей «Дневника писателя» здесь звучит – душевно – такая братская участливость к чужому и – философски – такая уверенность, что мировая жизнь народов в итоге оправдана и, несмотря на все заблуждения, не напрасна, что трудно удержаться от предположения: Соловьев этим своим выступлением 1877 года внес некий предварительный вклад в событие Пушкинской речи, прозвучавшей из уст Достоевского три года спустя.
Как замечено выше, идея мировой посреднической миссии России была выдвинута в тот момент, когда оба мыслителя надеялись на зарождающееся вокруг помощи славянам единодушие русского общества134. Однако развернуть эту идею как знамя Достоевскому привелось в совершенно ином общественном климате 1880 года (а Соловьеву вскоре после смерти Достоевского выпало отстаивать ее уже на краю глубокой пропасти между общественностью и властью и трещины внутри самой общественности).
Предчувствия назревавшей крутой перемены не обманули автора «Дневника писателя» (да и Соловьева в том модусе, в котором он их разделял). Но пришла эта перемена не с тем и не оттуда, откуда ожидалась в 1877 году. С выстрела Веры Засулич, а может быть, в еще большей мере – с ее сенсационного оправдания, началась война «Народной воли» и правительства, напрягшая до предела и расколовшая все общество. (Для тогдашней ситуации символично совпадение дат: «Чтения о Богочеловечестве», как бы предлагавшие русской молодежи другой предмет увлечения, начались через день после покушения Засулич на генерала Трепова и завершились одновременно с окончанием ее процесса.) Притом, если либеральная, западническая «партия» консолидировалась в надежде на положительный, с ее точки зрения, умеренно-конституционный итог этой «войны», ведущейся революционерами-террористами, то консервативная сторона, столкнувшись с террором как с новой общественной идеей-силой, оказалась совершенно обескураженной. Недолгое время спустя К.Н. Леонтьев с сокрушением писал: «<…> во всех государствах и у всех наций нашего времени все однородные охранительные силы находятся в постоянной между собой борьбе <…> Согласны везде между собой только одни социалисты и те, которые им потворствуют»135.
Действительно, положение на правом фланге, во всяком случае, в России, в ту пору можно было охарактеризовать, перефразируя известное mot Достоевского, как «раскол в консерваторах». Разумеется, некая общность существовала, иначе нельзя было бы говорить об «охранительном» направлении как таковом; но общность эта была чисто отрицательного свойства. Так, перспектива конституции («увенчания здания» реформ, о котором мечтали либералы) считалась здесь антинародной и пагубной136 – ввиду опасений, что в патриархальные отношения между царем и народом137 вмешаются своекорыстные политики. Но на том, чтó предложить вместо западной «говорильни» (как называет Леонтьев парламентскую систему, сочувственно цитируя при этом Н.А. Добролюбова!138), люди этого стана никак не могли сойтись: то ли Земский собор и уездное самоуправление (славянофилы и, в частности, Аксаков); то ли спросить на местах «серые зипуны» относительно их коренных нужд, а интеллигенции, наряду с властью, выслушав их, – действовать в земствах, исходя из народного волеизъявления (Достоевский); то ли укрепить юридические перегородки между сословиями, чтобы, создав таким образом резервацию для народа, сохранить его «византийские» добродетели (Леонтьев); то ли вообще ничего не надо, даже земств, где засели люди нравственно испорченные всяческой новизной, а, правя твердой рукой, перенести столицу из гиблого Петербурга в древнюю Москву и, поелику возможно, сочетать петровскую табель о рангах с церковно-государственным уставом Московского царства (бюрократическое славянофильство Победоносцева, не оставшееся без влияния после убийства Александра II).
Интересный документ, свидетельствующий об идейной разноголосице в этой среде, – письмо Достоевскому от известной в то время писательницы и общественной деятельницы славянофильских убеждений О.А. Новиковой-Киреевой139; оно датировано 15/3 апреля 1879 года и написано под впечатлением от покушения члена подпольной «Земли и воли» А.К. Соловьева на императора: «Вся Москва поражена злодейством 2-го Апреля. Встречаешь людей, готовых накинуться на первого встречного, на невинного, как на виноватого. Вчера на большом одном обеде нашелся господин, утверждавший, что наступило время действовать наперекор Екатерине II-й: “лучше казнить 10 невинных, чем пропустить одного виновного”140. Я прямо возразила, что, к счастию, наш Государь не стыдится подражать великодушию своей бабки и что он не признает другого основания строгости, как справедливость! Но все эти толки вам доказывают, до чего сильно возбуждение. <…>. Все это так грустно, так тяжело, что не знаешь, как Бог поможет Государю сохранить его обычную доброту и не сойти с пути реформ, которые ознаменовали его царствование. А ведь эти убийцы подлинно не ведают, что творят! Нет никакой возможности понять: чего они добиваются? Но верю, что не благо России дорого им, а какие-то мелкие, гадкие побуждения. Видела вчера Влад. Серг. Соловьева, очень расстроенного преследованием, которому подвергают его статьи141. Вот нашли опасного писателя! Неужели в П<е>т<ер>бурге решительно неспособны отличать друзей от врагов?»142.
Здесь засвидетельствована, во-первых, позиция «крепко реакционных» (по классификации Леонтьева143) консерваторов, автоматически реагирующих на угрозу слева повальным устрашением и «не способных отличить друзей от врагов»; а, во-вторых, близорукость более свободолюбивой, реформистски настроенной фракции консервативного течения, которая, в лице автора письма, явно недоумевает перед феноменом революционного террора и не в силах поверить в его идейную энергию. Дезориентированный лагерь русских охранителей мог бы обратиться к себе со словами, сказанными Достоевским еще в 1873 году по поводу бессилия французских консервативных элементов Третьей республики: «Надо принести с собою какую-нибудь новую мысль, сказать какое-нибудь такое новое слово, которое действительно имело бы силу вступить в бой с злым духом целого столетия несогласий, анархии и бесцельных французских революций. Заметьте, что ведь этот злой дух несет с собою страстную веру, а стало быть, действует не одним параличом отрицания, а соблазном самых положительных обещаний»144.
Однако среди людей, вырабатывающих в этот период практическую идеологию консерватизма, даже не ставилась задача выращивания общественной жизни из дорогих им старых начал; так что безнадежная характеристика, данная Леонтьевом Победоносцеву, приложима не к нему одному: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нем ничто не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница <…>»145.
Итак, среди защитников старых устоев доминировал тип «прямолинейных консерваторов», «ровно ничего не понимавших в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении»146. И когда Достоевский на московских литературных торжествах обратился к такому общезначимому символу русской духовной культуры, как Пушкин, он указанием на традиционный единящий источник подобного масштаба сразу вышел за наличные рамки российского консерватизма с его партикулярными ориентирами. От аудитории Пушкинского праздника Достоевский добился восторженного единодушия ценой намеренной недосказанности в том, что касалось его конечных выводов относительно устройства русского общества на христианских основаниях. Но недоговоренность эта была пророческой широтой, а вовсе не тем расплывчатым компромиссом, который незамедлительно после триумфа усмотрели в его словах «прямолинейные». Стержень Пушкинской речи – идея служения, адресованная как личности, так и нации, и идея жертвы своею самостью (потому-то патетически интерпретированный образ Татьяны стал средоточием всей речи). Писатель призывает на исконно русской почве нравственного подвижничества осуществить то, чего нельзя, по его мнению, достигнуть политическими размежеваниями и партийными пристрастиями. Но призыв Достоевского, как и следовало ожидать, никого не устраивал целиком. Сам примирительный дух его требовал от всех сторон некоего отрешения от устоявшихся привязанностей и движения навстречу друг другу, то есть, по существу, безумного дела; путь внутреннего преображения противоречил политическому инструментарию революционеров и конституционалистов-либералов147, а цель – братское состояние людей и «мировая гармония» – расходилась с представлениями правых о христианском вероучении.
Даже ближайший к Достоевскому энтузиаст его выступления И.С. Аксаков не воспринял исходного импульса Речи и встревожился из-за того, что в ней писатель не ставит западникам предварительных, вытекающих из его собственного кредо, условий для объединения со славянофилами. 20 августа 1880 года, получив свежий «Дневник писателя» с публикацией Пушкинской речи, Аксаков пишет Достоевскому: «Само собою разумеется, сойдись западники и славянофилы в понятии об основе (православно или истинно-христианской) просвещения – между ними всякие споры и недоразумения кончаются и стремление в Европу, т. е. на арену общей, всемирной, общечеловеческой деятельности народного духа – освящается. Вот почему, кстати сказать, тот только славянофил, кто признает умом или сердцем <…> Христа основой и конечною целью русского народного бытия. А кто не признает – тот самозванец»148.Чувствуется, что широкое приглашение Достоевского «поработать на одной ниве» Аксаков здесь осторожно уточняет – с тем, чтобы в этом деле к «своим» не примешались «чужие».
Но по крайней мере Аксаков, усматривавший заодно с Достоевским в чувстве «всебратства»149, свойственном русскому народу, залог его великого будущего, тем самым выказывал сочувствие конечным упованиям автора Пушкинской речи и не находил в ней ничего «еретического». Между тем речь эта неожиданно оказалась источником для догматического прения, которое тянулось и после смерти Достоевского. Оно обнаружило, что его участники – Достоевский, Леонтьев, Победоносцев и Соловьев – не только не солидарны в том, что, казалось бы, должно составлять их единство перед лицом противоположного лагеря, а, напротив, расходятся в самих основах своего христианского миросозерцания – в религиозных представлениях о смысле общественной жизни и судьбе мира…
Как известно, Константин Леонтьев встретил речь Достоевского активным неприятием; Победоносцев переслал его статью о ней в «Варшавском дневнике» Достоевскому без каких-либо комментариев; уязвленный Достоевский ответил на нее контробвинениями Леонтьева в нечестии и ереси (см. его письмо Победоносцеву от 16 августа 1880 года150 и записную книжку 1881-го151); в свою очередь, Анна Григорьевна включила эту крайне резкую запись в посмертное издание «Биографии, писем и заметок из записной книжки Ф.М. Достоевского» (СПб., 1883), выпущенного ею в качестве 1-го тома его собрания сочинений, тем самым парируя перепечатку журнальной статьи Леонтьева152, включенной им в отдельную брошюру153. Леонтьев же был крайне раздражен этой публикацией вдовы Достоевского и впоследствии в письмах В.В. Розанову жаловался на ее выпад, ссылаясь при этом на единомысленное с ним мнение Соловьева, который, однако, как будет показано ниже, вряд ли в этом решающем пункте мог быть с ним согласен154.
Здесь необходимо поясняющее отступление155. Ситуация, в которой Соловьев как бы признает «преимущества» Леонтьева перед Достоевским, возникла лишь несколько лет спустя после смерти писателя. О единомыслии Соловьева с ним и разномыслии с Достоевским Леонтьев с горячностью пишет Т.И. Филиппову 10 октября 1888 года из Оптиной пустыни156. Он пересказывает по памяти письмо Соловьева к нему157 – с завидной точностью (и с темпераментными комментирующими репликами, например, «Как это зло и справедливо!»), но притом ощутимо смещая контекстуальные акценты. В письме Соловьева от конца февраля – начала марта 1885 года158 сказано: «…никто кроме Вас не соображает своих советов с Варсонофием Великим159. В этом отношении я Вас гораздо более ценю, нежели Достоевского: для него религия была некой новой невиданной страной, в существование которой он горячо верил, а иногда и разглядывал ее очертания в подзорную трубу, но стать на религиозную почву ему не удавалось <…>». Однако дело в том, что в пору написания этого письма Соловьев был погружен в вопросы внутреннего канонического устроения православных Церквей на Востоке, готовя под псевдонимом злободневный материал для консервативной (и связанной с Леонтьевым) газеты «Голос Москвы» (см. об этом в сопроводительной статье Н.В. Котрелева), – то есть занимался вещами, в которых Леонтьев действительно разбирался куда лучше Достоевского, далекого от этих тем. И похвалы Соловьева своему корреспонденту носят частный характер («в этом отношении <…> ценю»), отнюдь не свидетельствуя о кардинальном единомыслии с последним, тем более о схождении в глобальной оценке Достоевского.
Но вернемся к восприятию Пушкинской речи. Чем же Достоевский так задел своих придирчивых единоверцев? Он избрал отправным пунктом неразрывность личной этики и социального действия и предположил, что, идя путем христианской нравственности, можно усовершенствовать мир. В этом-то состояло «новое слово» его Пушкинской речи и заключался невольный вызов другой точке зрения, согласно которой социальное приложение христианства состоит в том, чтобы только сдерживать злые силы мира сего, но не заниматься «посюсторонним» строительством жизни во имя несбыточной гармонии. «Христос учил, – пишет Леонтьев, оспаривая устремленность Пушкинской речи, – что на земле все неверно и неважно»; «верно только одно <…> это то, что все земное должно погибнуть»; «итак, пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть православное пророчество, а чуть-чуть не еретическое»160. Леонтьев находит у Достоевского уклонение в ересь «хилиазма» (то есть в сомнительное для Церкви учение о наступлении на земле тысячелетнего царства правды) и «понижение» христианства до социально-утопического «жорж-зандовского» гуманизма.
Подспудно же Леонтьев предпринимает это догматическое расследование не столько ради защиты вероучения, сколько затем, чтобы отстоять эстетику иерархического «византийского» уклада жизни от внедисциплинарого пафоса любви, с которым Достоевский, сам «новый человек», обращался к людям новых духовных запросов. И тот, пожалуй, был даже и «догматически» в чем-то прав, ощущая привкус кощунства в радикальных леонтьевских максимах, вроде следующей: «Правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть: при человеческой правде люди забудут божественную истину»161 – или в характеристике желательного тонуса милосердия как «сдержанного, сухого, как бы обязательного и холодно-христианского»162.
Своей полемикой Леонтьев спровоцировал Соловьева (перед чьим умственным и теологическим даром он, кстати сказать, преклонялся) взять под защиту уже покойного Достоевского163 и поставить его Пушкинскую речь на более строгие вероучительные рельсы: «<…> Проповедь и пророчество о всеобщем примирении, всемирной гармонии и т.д. относится прямо лишь к окончательному торжеству Церкви. <…> И напрасно г. Леонтьев указывает на то, что торжество и прославление Церкви должно совершиться на том свете, а Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой безусловной границы между “здесь” и “там” в Церкви не полагается. <…> И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, на которой правда живет»164. Этот полемический эпизод, непосредственно связанный для Соловьева с заботой о христианском реноме своего старшего друга, вместе с тем привел его к исповеданию собственной неизменной веры в общественную миссию христианства165.
Одновременно с прямым комментированием мыслей Достоевского Соловьев в главном труде 1883 года – «Великий спор и христианская политика», – не называя современных ему имен и углубляясь в церковно-общественную историю, по существу учиняет богословский разгром тех позиций «византийца» Леонтьева, с которых тот нападал на Пушкинскую речь. Когда Соловьев пишет о ереси «практического несторианства», поразившей строй Византии, который «рядом с божественным началом узаконил человеческое начало, несогласованное с первым»166, – он тем самым оспаривает автора «Наших “новых” христиан» с его разделением мира на «здешний», десакрализованный, обживаемый человеком по-язычески, и на запредельный, куда душа, равнодушная к судьбе всего мирского, стремится для воссоединения с Богом. В том же духе Соловьев изобличает на этих страницах «еретическое» настроение, к которому сводима другая претензия Леонтьева, предъявленная Достоевскому, – относительно подмены христианства светским человеколюбием. Находя у византийских церковников столь «леонтьевский» комплекс пренебрежения к человеческому, Соловьев заносит его в свой список ересей под названием «практического монофизитства», «в котором человек поглощался Богом»167. И как нельзя больше подходит к душевной ситуации Леонтьева парадоксальная фраза Соловьева о том, что в Византийской империи «православное вероучение ревностно охранялось не только подвижниками монастырей, но и подвижниками гипподрома»168. Ведь раздвоенный Константин Леонтьев, этот, по выражению В.В. Розанова, «турецкий игумен», действительно ухитрялся совмещать тип сознания тех и других…
Ну а Победоносцев, который, как было упомянуто, не замедлил довести до сведения Достоевского враждебную статью в «Варшавском дневнике»169, – ограничился ли он этим косвенным намеком на сомнительность для него христианского кредо писателя? 4 февраля 1882 года он пишет Е.Ф. Тютчевой: «Достаньте себе сегодняшний № Нового времени и почтите там речь безумного В.С. Соловьева о Достоевском. Ведь они подлинно думают и проповедуют, что Достоевский создал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире и даже в русской церкви!»170. Они, так панически прозвучавшее у Победоносцева («они подлинно думают и проповедуют…»), – это какое-то полчище религиозных модернистов, которое мерещится автору письма за спиной Соловьева и грозит вторгнуться в заведенный порядок, разграничивающий дела веры и дела общественные. Становится очевидным, как глубоко запал в сознание Победоносцева «сигнал» Леонтьева по делу о ереси («какая-то новая религия любви»!) и до чего усилились его подозрения относительно прежнего, как-никак, сподвижника, после того как Соловьев заострил некоторые принципиальные темы Достоевского в своей речи памяти писателя. И поскольку Достоевский сознательно выступал с пророческим словом «в русском мире», а Соловьев ставил ему это в великую заслугу171, то думается, Победоносцев, выражая в процитированном письме раздражение против обоих, косвенно засвидетельствовал единство их духовного настроения.
Соловьев безумен в глазах Победоносцева, конечно, в первую очередь не оттого, что провозгласил пророческую миссию Достоевского. В высказываниях обер-прокурора Синода о философе эпитет «безумный» фигурирует в качестве постоянного (кочуя из письма в письмо) с тех пор, как Соловьев 28 марта 1881 года произнес свою знаменитую речь с призывом помиловать убийц Александра II. Легендарность этого выступления – не только в его резонансе, но и в отсутствии авторского и вообще авторитетного текста; существует несколько пересказов, сильно разнящихся между собой. Одну из версий, видимо, тут же доложенную доверенным лицом Победоносцеву, мы узнаём из его очередного письма Е.Ф. Тютчевой, написанного на следующий день. Рассказав в нем об обращении Л.Н. Толстого к царю с просьбой не казнить народовольцев, Победоносцев возмущенно продолжает: «А вчера безумный философ Влад. Соловьев читал публичную лекцию о философии. Публика состояла из гимназистов, курсисток и т.п., дам и кавалеров. Он с вдохновением доказывал, что не следует казнить преступников, и в конце сказал: если царь это не сделает, мы не можем идти за ним. Ответом были громовые рукоплескания. Мне передавали слушатели там бывшие. И представьте, что болван Киреев устраивал эту лекцию! Судите, что здесь происходит!»172.
Эта краткая передача слов оратора в общих чертах совпадает с вариантом, который приводится во вступительной статье З.Г. Минц к изданию стихов Соловьева в «Библиотеке поэта»173. Но нам представляется более адекватным ходу мысли философа свидетельство тогдашнего студента Н. Никифорова, оставившего воспоминания о речи 28 марта. По его словам, Соловьев говорил: «Совершилось злое, бессмысленное ужасное дело: убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и по существующему закону их ожидает смерть, как возмездие, как исполнение языческого веления: око за око, смерть за смерть. Но как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского общества, по отношению к впавшим в тяжкий грех? Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. <…> “Помазанник Божий”, не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и передав их в ведение церкви, единственно способной нравственно исцелить их…»174.
Этой записи очевидца хочется отдать предпочтение потому, что в ней зафиксированы мысли, которые несут отпечаток духа Достоевского и непосредственно по смерти писателя занимают Соловьева, поглощенного тогда продолжением его дела.
Не прошло еще и двух месяцев с того дня, как Соловьев над раскрытой могилой писателя в Александро-Невской лавре сказал поистине клятвенное надгробное слово, прозвучавшее в тонах поздней проповеднической прозы Достоевского и напоминающее «речь на камне» Алеши Карамазова: «И мы, собравшиеся на могиле, чем лучшим можем выразить свою любовь к нему, чем лучшим помянуть его, как если согласимся и провозгласим, что любовь Достоевского есть наша любовь и вера Достоевского – наша вера. Соединенные любовью к нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом. Тогда только воздадим мы достойное духовному вождю русского народа за его великие труды и великие страдания»175.
Но как начать дело любви и единения в обществе, раздираемом враждой и сотрясаемом террором? Соловьев речью 28 марта поставил перед царем и общественностью ту же самую проблему, какую Достоевский решал для себя в последние месяцы перед кончиной, в связи с казнью в конце 1880 года двух народовольцев-террористов и помилованием (присуждением бессрочной каторги) их однодельцев: «Как государство – не могло помиловать (кроме воли монарха). Что такое казнь? – В государстве – жертва за идею. Но если церковь – нет казни. Церковь и государство нельзя смешивать. То, что смешивают, – добрый признак, ибо значит клонит на церковь. В Англии и во Франции не задумались бы повесить <…>»176. Как видим, Достоевский над юридическим механизмом возмездия ставит монарха, для кого одного возможен акт милосердия не как нарушение, а как превосхождение закона. Именно в таких прерогативах «помазанника» Достоевский усматривает отличительную особенность и многообещающее преимущество русской государственности по сравнению с теми же «Англией» и «Францией». После 1-го марта Соловьев вообразил, что царю наконец предоставляется «небывалая прежде возможность»177 продемонстрировать это преимущество в роковой для России момент и уникальным личным великодушием инициировать христианскую общественную правду, противостоящую революционному насилию.
Далее Соловьев (и этим тоже подтверждается достоверность записи Никифорова) безусловно мог в своей речи выдвинуть ту идею церковного суда, которая дебатируется в несомненно памятной ему и создававшейся в общении с ним главе «Буди, буди!» (из Книги второй «Братьев Карамазовых») и к которой Достоевский вернулся в приведенной выше записи 1881 года. Соловьев был как раз одним из тех, кого, по выражению Достоевского, «клонит на церковь» и кто в итоге хотел бы заменить государственное правосудие ее попечением. Наконец, и та особо одиозная для властей мысль, о которой мы узнаём из пересказа Победоносцева (и Щеголева), тоже имеет соответствие в размышлениях позднего Достоевского. Если Соловьев, судя по всему (в том числе и по его письму к императору) действительно говорил, что народ пойдет только за царем, явившем христианскую правду милосердия, близкую народному сознанию, – то ведь и Достоевский подобным же образом полагал, что царская власть сильна не иначе, как своей общностью с религиозно-нравственными началами, живущими в народе.





