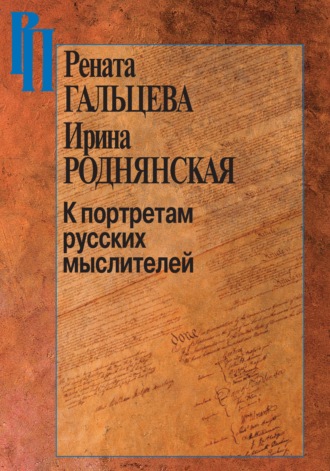
Рената Гальцева
К портретам русских мыслителей
Р. Гальцева, И. Роднянская
Владимир Соловьев и Ф. М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов XIX века73
Зимой и весной 1878 года, великим постом, на лекциях молодого философа Владимира Соловьева в Соляном городке присутствовали среди собравшегося здесь интеллектуального Петербурга два человека, глубоко причастных к судьбе России. Эти двое – член Государственного совета, воспитатель наследника Константин Петрович Победоносцев и прославленный писатель Федор Михайлович Достоевский.
К той поре оба, после совместного сотрудничества в газете «Гражданин» и частых вечерних бесед на животрепещущие темы, считали себя во многом единомышленниками. Но вот появился перед ними, на кафедре либерально-просветительного учреждения – Высших женских курсов, – чаемый человек из нового поколения, не «нигилист», а проповедник «положительных начал», с неслыханным по тем временам и с такой кафедры словом о «разумном оправдании» религиозных основ жизни, – и отклик каждого из этих двух выявил их подспудное духовное несовпадение в самом существенном: в том, что касается человека, свободы и России.
Религиозный лично, отдавший много сил богословским размышлениям и писаниям74, Победоносцев поначалу был подкуплен и размягчен начинанием смелого, но благонамеренного молодого человека. В конце февраля, то есть после первых соловьевских «Чтений о Богочеловечестве», он пишет своей постоянной корреспондентке Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери поэта: «Здесь в Питере все теперь заняты лекциями молодого Соловьева – о философии религии. Я скучаю на всяких лекциях, но эти слушаю с удовольствием, не пропуская ни одной. Дело, задуманное им, – новость в России, приятная и много обещающая в будущем. Конечно, он еще очень молод, но успел вполне выносить в себе и обработать пропорционально предмет своих чтений для нашей публики. Рамка его – по содержанию своему слишком широка, необъятна, для 12 часов, в которые он должен втиснуть свой сюжет. В ней не остается места широкому, ясному развитию тех философских начал, которые он должен изложить, – и это недостаток заметный. Притом он не привык к публике – и аудитория покуда угнетает его более нежели возбуждает. Он конфузлив, не владеет вольною, живою речью и должен – либо говорить утомительно медленно с большими паузами, либо читать по бумаге. Но то, что он говорит или читает, связно и толково, и до сих пор ни разу не вырвалось у него ни одно из тех бестактных выражений, которые слышатся у нас всякий раз, когда бывает попытка секуляризировать в аудитории для публики священные предметы. Слушателей очень много и число их возрастает – из всех классов общества – впереди целая фаланга дам из высшего общества. Конечно, многие понимают очень мало, иные понимают вполовину, но все-таки все стараются понять – и это много значит. Я высоко ценю это возбуждение интереса к идеальным предметам и понятиям. Соловьев неоспоримо – молодой человек с талантом и знанием»75.
Далее Победоносцев, развлекая свою адресатку игривым сюжетом, описывает осаду молодого философа великосветскими интеллектуалками, которые «не дают ему прохода»: «Я <…> внутренне смеялся, видя юного философа сидящего промежду двух этих дам у чайного стола. – Хотели, чтоб он разговорился между ними о своей философии. Но он молчал упорно, изредка проговаривая. Неловкое положение для философа – и потом, слыша, что его принялись каждый день звать к себе то та, то другая, я искренно пожалел об нем и, принимая в нем участие, стал себя спрашивать, как молодой человек вынесет это испытание. Авось-либо устоит».
Давняя конфидентка Победоносцева, умевшая читать между строк еще не осознанное им самим, в этом благодушном отзыве уловила и в ответном послании от 24 февраля 1878 года высказала сомнение в пригодности слишком независимого молодого человека к исполнению идейно-охранительной службы: «Жаль, что Соловьев начал с того, что обращает светскую публику <…> Il est trop jeune, pour séculariser une pensée, qu’il ne devrait encore approcher, que pour demander son proper enseignement»76. И, вспоминая о своих московских впечатлениях от Соловьева, когда тот переживал первый шумный успех после защиты магистерской диссертации в 1874 году, Тютчева добавляет: «Года четыре тому назад, он имел в Москве то же самое положение, которым пользуется теперь в Петерб<ургских> гостиных, и помнится мне, что отказалась от его знакомства ради его самого»77. (Это знакомство могло тогда легко состояться через родную сестру Екатерины Федоровны Анну Федоровну Аксакову, жену известного славянофильского публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова, в чьем доме, «в Толмачах близ Ордынки», Соловьев был радушно и даже восторженно принят78.)
Действительно, Е.Ф. Тютчевой удалось предугадать скорое разочарование Победоносцева в «молодом человеке с талантом и знанием». В многостраничном письме-отчете от 2-3-5 апреля 1878 года, адресованном той же Екатерине Федоровне, Победоносцев пишет: «Сегодня последняя лекция Соловьева. Я не поехал слушать его. Эти лекции мне надоели. Болезнь прервала их для меня на месяц, потом я слушал его в прошлую пятницу и вышел с неприятным впечатлением. Выступить с такою программою – большая претензия для молодого человека. Но всему есть мера. Есть сюжеты столь возвышенные, что неприятно, когда их касаются поверхностно. <…> А сегодня он предпринимает говорить про Воскресение и Вознесение. Я очень рад, что он кончает, и желаю от души, чтобы он обрел неудовлетворенность своими лекциями». И спустя некоторое время дописывает: «5 апр. <…> Лекции Соловьева кончились. Я не был на последней, и очень доволен что не был. Представьте, что этот молодой человек, говоря о воскресении и будущем суде, публично опровергает учение о вечной казни грешников, и один раз назвал это учение “гнусным догматом”! <…> Этого я не могу простить Соловьеву и не могу причислить его к сериозным и православным защитникам веры. Это опять тот же нигилизм личного самолюбия, личной гордыни, личной мысли, только в ином виде»79.
Разумеется, в Победоносцеве говорило не только оскорбленное чувство ревнителя православной догмы – все его духовное пристрастие к недвижности, к всяческим перегородкам в жизни и мысли, к ограничению личной самодеятельности восставало против свободного почина и свободного философствования Вл. Соловьева. Он не полагал, подобно Достоевскому, что «никакая из святынь наших не боится свободного исследования»80. Кстати, теологически скандальное заявление Соловьева о «гнусном догмате» положило начало его сомнительной репутации не только в глазах Победоносцева, но и в церковных кругах, – и, видимо, проникло даже сквозь стены Оптиной пустыни, так что можно предположить: некое (по слухам) порицание Соловьеву после их совместной с Достоевским поездки (летом того же 1878 года) в знаменитый монастырь связано не с впечатлением монахов от личного его облика, а именно с этим публичным демаршем81.
В отличие от Победоносцева, Достоевский по мере слушания не только не остывал к лекциям Соловьева, но, не пропустив ни единой, внутренне перерабатывал их как стимул для своей художественной и нравственной мысли. Примечательно, что вышеупомянутая антидогматическая дерзость лектора не только не шокировала религиозные чувства Достоевского, но, напротив, привлекла писателя своей этической подоплекой, побудив его вложить в уста старца Зосимы истолкование «вечных мук» как неизбывных укоров совести, а не загробных телесных пыток82. Мы еще вернемся к тому, как духовное общение с Соловьевым отразилось в круге тем и образов «Братьев Карамазовых», а сейчас перенесемся на несколько лет назад, к моменту первого знакомства писателя и юного философа – знакомства, которое с самого начала наметилось как идейное взаимоузнавание двух разных поколений, озабоченных судьбой России.
К этой встрече, состоявшейся в 1873 году, привела новая жанровая и общественная проба, предпринятая Достоевским, – печатание «Дневника писателя» в редактировавшейся им газете кн. В.П. Мещерского «Гражданин». «Дневник писателя» и предназначался прежде всего молодой аудитории, в которой, по мнению Достоевского, скопилась жажда правды и полезной деятельности, но которая блуждает без духовного руководства и попадает под нигилистические влияния. Как «ловец человеков» он закидывает посреди молодой России словесную сеть, захватывающую сердца прямым, безоглядным обращением к идеалу. Иногда эта страстная надежда ободрить, возвысить и даже «заклясть» общественное сознание достигает мучительно высоких, на грани срыва, степеней возбуждения: «…Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, – единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов…» Он и сам чувствует, что на этот, до неправдоподобия искренний, напряженно вибрирующий звук отзовется разве что энтузиазм юности. «А впрочем, – заканчивает он эту тираду, – неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но – слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения <…>»83.
И действительно, уже на январский выпуск «Дневника…» за 1873 год отозвался письмом, в числе самых первых, двадцатилетний юноша: «Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно как всякий протест против лжи. Из программы “Гражданина”, а также из немногих ваших слов в №№ 1 и 4 я заключаю, что направление этого журнала должно быть совершенно другим, чем в остальной журналистике, хотя оно еще и недостаточно высказано в области общих вопросов. Поэтому я считаю возможным доставить вам мой краткий анализ отрицательных начал западного развития <…>. Впрочем, я приписываю этому маленькому опыту только одно несомненное достоинство, именно то, что в нем господствующая ложь прямо названа ложью, и пустота – пустотою»84. В последних словах этот корреспондент Достоевского увлеченно воспроизводит строй и тональность фразы из только что прочитанного «Дневника…»: «…порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством…»85. Но пишет он пером не робеющего ученика-поклонника, а человека, неукоснительно ведомого мобилизовавшей его истиной и потому нечувствительного к дистанции между собой и знаменитым адресатом. Этот юноша – Владимир Соловьев, «философ призывного возраста» (как вскоре будет насмешничать над ним недружелюбная часть прессы). Стоит сравнить энергию его сжатого письма с трепетным многоречивым излиянием старшего его брата Всеволода, письменно обратившегося к Достоевскому за месяц до того86, чтобы понять всю исключительность «улова», выпавшего на долю первых же страниц «Дневника писателя».
К Владимиру Соловьеву, вскоре после этого письма представшему во плоти перед Достоевским87, будущий автор «Братьев Карамазовых» мог бы отнести слова, какими он представляет читателям своего героя Алешу: «<…> это человек странный, даже чудак. <…> Чудак же в большинстве случаев странность и обособление. Не так ли? Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: “Не так” или “не всегда так”, то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего <…>. Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого <…>»88. Новый знакомец должен был поразить Достоевского необычайностью даже своего внешнего облика (чего, конечно, нельзя сказать об Алешиной наружности, в которой писатель намеренно подчеркивает черты здоровья и нормы). Вот рельефный портрет Соловьева той поры – глазами прозаически настроенного наблюдателя: «<…> Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо <…> небольшое округлое, женственно-юношеское, бледное с синеватым отливом, и большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, неморгающие, устремленные куда-то вдаль. <…> Длинные и тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами. <…> Почему-то хочется называть такие пальцы перстами. <…> Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное <…>»89. В этом странном образе, между прочим, схвачены черты отвлеченности и интеллектуальной отрешенности, характерные скорее для Алешиного брата Ивана90. Но при первом же приливе воодушевления во Владимире Соловьеве проступало то духовное сияние, тот дар возбуждать к себе особенную любовь, которым Достоевский наделит своего любимого героя Алешу. Близко общавшаяся в эти годы с Соловьевым его сверстница и слушательница на Московских женских курсах Елизавета Поливанова вспоминает: «<…> это лицо прекрасно с необычайно одухотворенным выражением; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников. <…> Говорил он тогда о своих широких замыслах в будущем. Он в то время горячо верил в себя. Верил в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли. <…> Когда он говорил об этом будущем, он весь преображался. Его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картину этого чудного грядущего»91.
И такие крайние выражения восторга типичны для встречавших его тогда людей: «Высокий <…> тонкий, изящный, с головой пророка и бледным красивым лицом, обрамленным длинными, спадавшими волосами, он напоминал Иоанна Крестителя на картине Иванова и производил взглядом больших, казавшихся синими, глаз своих, блестевших иной раз в беседе вдохновением, поразительное впечатление. Нельзя было усомниться, увидев Соловьева, что перед вами особый человек, – пророк, гениальный поэт. <…> На нем лежала печать высшей духовной силы и одаренности; не показалось бы невероятным, если бы вокруг его лба засияли лучи», – вспоминает университетский товарищ Всеволода Соловьева, впоследствии хороший знакомый Владимира Сергеевича, Н.В. Давыдов92. Можно предположить, что и Достоевский не остался равнодушен к этой впечатляющей внешности. Уже подружившись с Соловьевым, он пишет в июне 1880 года из Старой Руссы гр. С.А. Толстой: «А Владимира Соловьева пламенно целую. Достал три его фотографии в Москве: в юношестве, в молодости и последнюю в старости; какой он был красавчик в юности»93.
Достоевского должен был поразить и поступок Соловьева, совершенно необычный для его среды и для научной карьеры: после окончания Московского университета он стал вольнослушателем Московской Духовной академии при Троице-Сергиевой лавре, в связи с чем пошли слухи о его намерении принять монашество. Впоследствии у Достоевского Алеша Карамазов столь же непредвиденно отправится в монастырь – тоже, как выяснится, не затем, чтобы навсегда остаться в его стенах. Оба в поисках всецелой правды курсируют между «дольним» и «горним», непроизвольно нарушая ранжир и кастовые условности. И в своем устремлении к воплощению жизненного идеала оба – реальный персонаж и литературный – являют собой тип еще «невыяснившегося» нового «деятеля», на которого как на созидательный и единящий фермент русской жизни возлагал надежды автор «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».
Говоря о тесном общении Достоевского и Соловьева, обычно обращаются к концу 1870-х годов. Однако из следующего краткого уведомительного письма видно, что Соловьев уже в первый год знакомства вошел в постоянное окружение Достоевского и был принят им на равной ноге. Приехав ненадолго в Петербург, москвич Соловьев пишет:
Милостивый Государь
многоуважаемый Федор Михайлович,
собирался сегодня заехать проститься с Вами, но к величайшему моему сожалению одно неприятное и непредвиденное обстоятельство заняло все утро, так что никак не мог заехать. Вчера, когда Н.Н. Страхов нашел Вашу записку на столе, я догадался, что это Вас я встретил на лестнице, но по близорукости и в полумраке не узнал. Надеюсь еще увидеться, впрочем, осенью в Петербурге.
С глубочайшим уважением и преданностью остаюсь
Ваш покорный слуга Вл. Соловьев.
Передайте мое почтение Анне Григорьевне.
23 дек. 7394
Таким образом, Достоевский выделил Соловьева еще до его шумного успеха на магистерском диспуте «против позитивистов»95 в 1874 году, то есть еще до того, когда молодой диссертант был отмечен в академических кругах как выдающаяся «умственная сила»96 и когда на него обратили внимание «последние представители коренного славянофильства, к которому, – как вспоминает впоследствии Соловьев, – в некоторых пунктах примыкали мои воззрения <…>»97. У Соловьева с Достоевским за короткий срок складывается общий круг знакомых: вожди славянофильства И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.А. Киреев, известный историк и общественный деятель, создатель Бестужевских женских курсов в Петербурге К.Н. Бестужев-Рюмин, тогдашний литературный соратник Достоевского Н.Н. Страхов, затем вдова поэта А.К. Толстого графиня С.А. Толстая и др.
Начиная с 1873 года вплоть до кончины писателя, Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура. Известны попытки раскрасить ближайшую среду позднего Достоевского в салонно-дворцовые и помпезно-геральдические тона, якобы утешительные для взора и самолюбия выходца из неродовитой семьи, бывшего острожника98. Действительно, в числе его знакомых были титулованные особы, но атмосфера здесь определялась не сословным, а духовным отбором. Иначе, как можно представить своим среди этих людей Владимира Соловьева – такого же, в сущности, как и сам Достоевский, вечного пролетария пера, Соловьева – бессребреника и странника, живущего, так сказать, надимущественно и надсословно!
Сфера человеческих отношений, объединявшая Достоевского и Соловьева, – это столько же литературно-общественные салоны с их благотворительными вечерами и необязательным интересом к высшим предметам, сколько целеустремленный мир идейной молодежи, часть которой увидела в эти годы реальное жертвенное дело в помощи славянам, страдающим под турецким владычеством. Тот и другой жизненные стили как раз олицетворяли две молодые женщины, серьезно увлекавшие тогда Владимира Соловьева.
Одна из них, уже упоминавшаяся Елизавета Михайловна Поливанова, принадлежала к особо выделенному Достоевским типу русской девушки, о котором он говорит в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «… прямой, честный, но неопытный юный женский характер, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено даже от соприкосновения с пороком. Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой и безо всяких отговорок, все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, – убеждение в высшей степени верное и нравственное <…>»99. Она, как и юная знакомая Достоевского, описанная на этих страницах «Дневника…», могла бы прийти к писателю и заявить: «Хочу ходить за ранеными». Так Лиза Поливанова и поступила: когда ей не удалось уехать на сербский фронт, где уже воевали ее братья, она стала сестрой милосердия в подмосковном госпитале. Владимир Соловьев, за два года до этого делавший ей предложение, сраженный отказом и вновь возобновивший дружбу с нею после долгого заграничного путешествия, обращается к Поливановой как к единомышленнице, как к возможной сотруднице в начатом молодежью деле обновления жизни и 25 сентября 1877 года пишет ей в госпиталь: «Мне очень тяжело, что мы встречаясь смотрим друг на друга, как люди, у которых нет и не может быть ничего общего. Разве это так? Я не думаю. Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое соединит очень многих – и нас с Вами очень близко. Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога. Правда, Вы лучше меня готовитесь к этому служению – живя для других и делая добро окружающему Вас миру, хотя я пока искал этого бога больше только в теории <…>. Правда, я говорю о неведомом – откроется ли оно? Одно несомненно, что без этого жить нельзя. <…> Если же мы соглашаемся жить, то только потому, что смотрим вперед. А если мы смотрим в одну сторону, то зачем бы нам чуждаться друг друга?»100. Настроение подъема, вера в открывающийся путь, которым веет от этого письма Соловьева, всей душой разделял в 1876—1878 годах и Достоевский, надеявшийся, что молодежь, начав со справедливого дела защиты «братьев-единоверцев», отныне пойдет по пути оздоровления социальной жизни и оторвется от политического радикализма. То, что пишет Достоевский одному из своих корреспондентов, удивительно перекликается с письмом Соловьева к Поливановой: «Несомненно <…> что идут (и скоро придут) новые люди, так что горевать и тосковать нечего. Будем достойными, чтобы встретить их и узнать их»; «<…> по симпатиям я вовсе не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние годы мне более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»101. (Выражение «новые люди» здесь полемически переосмыслено по отношению к роману Чернышевского «Что делать?», откуда оно и позаимствовано Достоевским. Выше уже говорилось, что Алеша Карамазов для него «новый человек» – во всем противоположный Рахметову…)
Упоминание в письме к Поливановой грядущего «неведомого бога» навеяно мыслями о как раз в это время формулируемой философом и затем публично заявленной им в «Чтениях …» 1878 года цели мирового исторического процесса – «Богочеловечестве». Эта грандиозная задача гармонизации всех сторон земного бытия и была для Соловьева тем «практическим» делом, в которое он призывал включиться всех «смотрящих в одну сторону» и прежде всего свою любимую. Соловьев отдал дань и конкретному, «славянскому делу»: по свидетельству очевидцев вооружившись букетом роз и огромным пистолетом, он отправился на театр военных действий за Дунай в качестве корреспондента от «Московских ведомостей» М.Н. Каткова, но там сразу произвел впечатление человека, оказавшегося не на своем месте, и вскоре вернулся назад. (Д.А. Скалон, в чью часть прибыл Соловьев, вспоминает его экзотическую фигуру «в русском наряде, в бархатных шароварах, красной рубашке и суконной расстегнутой поддевке»102.) В этом эпизоде, надо думать, сказалась не только житейская неприспособленность философа; панславизм ему, в отличие от Достоевского, никогда не представлялся тем рычагом, с помощью которого можно приблизить братское устроение России и всего человечества (хотя Соловьеву тоже был дорог опыт общественного энтузиазма, порожденного русско-турецкой войной, и в 1891 году он пытался организовать общественную помощь голодающим по образцу славянских благотворительных комитетов прежней поры).
Окрашенное во многом одинаковыми надеждами интенсивное общение Соловьева и Достоевского осенью-зимой 1877 года достигает под влиянием «Чтений о Богочеловечестве» степени единодушия, и не случайно в трагическую для Достоевского полосу (смерть младшего сына) Соловьев оказывается рядом с ним, сопровождая его в Оптину пустынь. История этого предприятия, знакомая нам по письмам Достоевского к Анне Григорьевне и по ее воспоминаниям103, может быть дополнена ответом Соловьева от 12 июня 1878 года на не дошедшее до нас письмо к нему Федора Михайловича, озабоченного устройством поездки:
Многоуважаемый Федор Михайлович,
Сердечно благодарю за память. Я наверно буду в Москве около 20 июня, т. е. если не в самой Москве, то в окрестностях, откуда меня легко будет выписать в случае Вашего приезда, о чем и распоряжусь. Относительно поездки в Оптину пустынь наверно не могу сказать, но постараюсь устроиться. Я жив порядочно, только мало сплю и потому стал раздражителен. До скорого свидания. Передайте мое почтение Анне Григорьевне.
Душевно преданный
Вл. Соловьев.104
Упоминаемые здесь «окрестности Москвы» – это, очевидно, гостеприимное имение Поливановых Дубровицы близ Подольска на реке Пахре, в восемнадцати верстах от Москвы, где Соловьев часто бывал, собираясь с духом для нового предложения руки и сердца Елизавете Михайловне, хотя и без всякой уверенности в положительном ответе. (Этим смятенным состоянием, быть может, объясняется тогдашнее, июньское впечатление от него, сложившееся у Достоевского: «Соловьева застал, очень странный, угрюмый и поношенный»105.)
Другая любовь, захватившая Соловьева после крушения романа с Поливановой, – к Софье Петровне Хитрово, племяннице С.А. Толстой, вместе с которой она тогда жила, – развертывалась уже, можно сказать на глазах Достоевского, в светском кружке106. Обе приветливые и каждая на свой лад блестящие дамы способствовали частому общению писателя и философа в Петербурге. Дети Софьи Петровны, нежно любимые Владимиром Соловьевым, играли с детьми Достоевских, а сама она на правах близкой приятельницы слала Федору Михайловичу записки с приглашениями и просьбами, прибегая к свойственному ей языку «восхитительного косноязычия107: «Федор Михайлович Пожалуйста будьте очень добрым и скажите мне прямо можете ли вы согласится [sic] на нашу просьбу с Графиней. Видите что, есть очень бедный и несчастный человек – которому Графиня очень хочет помочь и вот в его пользу мы стараемся устроить чтение у нас. Я знаю что вы очень нелюбите [sic] читать но пожалуйста сделайте это для нас <…>. Простите мне что я так многое у вас прошу, но этот человек в самом деле нуждается в помощи, а иначе мы не можем ему помочь. Он занимался литературой а теперь у него неизличимая [sic] болезнь. Я не умею все это трогательно рассказать, но Цертелевы и Соловьев вам раскажут [sic]»108. Из этой записки видно, что Соловьев как доверенный друг обоих домов чувствовал себя естественным посредником между ними и охотно выполнял роль посланца. Так, именно он доставил от С.А. Толстой очень дорогой сердцу Достоевского подарок – большую фотографию Сикстинской Мадонны109. Как бы от имени всей семьи Соловьев пишет 26 мая 1886 года Достоевскому из Пустыньки, имения С.А. Толстой под Петербургом: «Как вы поживаете, а я все в Пустыньке, часто вас вспоминаем. <…> Я живу хорошо, надеюсь и вы также. Читаю огромную немецкую эстетику и биографии великих художников для своего сочинения о началах творчества110. Здесь в Пустыньке ожидается нашествие иноплеменных, но надеюсь обойдется без междоусобной брани <…>»111. В этом же письме Соловьев обращается к Достоевскому за благотворительным делом – насчет оказания помощи одной бедной знакомой Анны Григорьевны. Филантропия была повседневной чертой быта в этом кругу, но для Соловьева она являлась не побочным занятием, а непреоборимой сердечной потребностью. По уже цитированным воспоминаниям Поливановой, «для каждого обездоленного он был готов сделать все, что было в его силах. Да и вообще, всякий, кого он знал, мог всегда полагаться на него как на каменную гору. Точно так же было трогательно его отношение к детям»112.
Достоевский, несомненно, оценил натуру Соловьева, его бескорыстие, беззаветную отданность высоким замыслам и вместе с тем умозрительную радужность его упований, что подчас вызывало у много пережившего шестидесятилетнего писателя покровительственную улыбку. Литератор Д.И. Стахеев воспроизводит в своих записках сцену, происходившую в его доме:
«Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:
– Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек…
– Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу…
– Погоди благодарить, погоди, – возразил Достоевский, – я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо тебе года на три в каторжную работу…
– Господи! За что же?..
– А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин…»113.
В этой зарисовке мемуариста соблазнительно увидеть иллюстрацию к довольно распространенной точке зрения, согласно которой миросозерцание Достоевского противостоит миросозерцанию Соловьева как трагическое – утопическому114. На самом же деле эти два начала в мышлении каждого из них находились в сложном переплетении и приводили к сходным внутренним коллизиям.
Оба приняли близко к сердцу аномальное состояние мира и человеческого духа и были убеждены, что нельзя сохраниться людскому общежитию и ближнему человечеству – России – иначе, как решительно двинувшись по направлению к идеалу. У молодого Соловьева это ощущение «мирового зла», радикальной неустроенности всего окружающего выражалось с остротой юношеского мессианизма, верующего в свое право на вселенский почин: «Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким должно быть, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано»; «… теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его. <…> С такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим <…>»115. У Достоевского 1870-х годов, давно изжившего – в формах социально-утопического радикализма – максималистский пафос юности, конечно, было меньше пожектерского пыла и больше бережности к наличному органическому строю жизни. Но ведь и Достоевский, устами «смешного человека», которому он по существу доверил свое вúдение истины, свою проповедь и свое бесстрашие перед перспективой показаться «совсем сумасшедшим», свидетельствует с той же, что у Соловьева, убежденностью о глубоком искажении, вкравшемся в бытие: о лжи, эгоизме, обособлении и вражде, определяющих социальную жизнь людей и влекущих за собой космический разлад. Так же, как Соловьев на пороге будущей деятельности, поздний Достоевский в «Сне смешного человека» заявляет о своем неприятии «мирового зла»: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»116 – и демонстрирует одинокий почин, зовущий сообщество людей к совершенству: «И пойду, и пойду!»
Истоком такой проповеди у каждого было личное соприкосновение с жизненным идеалом в его зримо-убедительном образе: «Я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки <…> я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел» (Достоевский)117; «<…> первое сиянье всемирного и творческого дня <…> все видел я, и все одно лишь было <…>» (Соловьев)118.Поэтому оба оценивали житейскую данность, глядя на предносящийся им образец «живого и беспрерывного единения с Целым вселенной» (Достоевский)119 – или, по терминологии Соловьева, «положительного всеединства». Эта роднящая их изначальная внутренняя установка рождала у обоих одну и ту же потребность примерять к ходу исторических событий грандиозные схемы, которые открывали бы для человечества спасительную перспективу.





