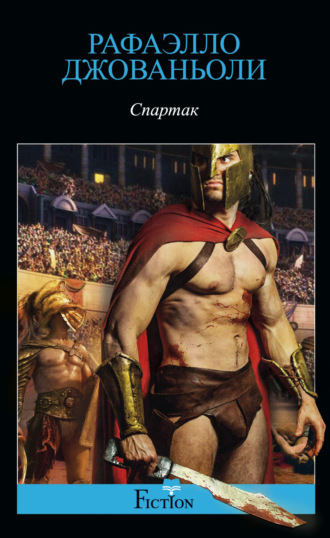
Рафаэлло Джованьоли
Спартак
– Нет, клянусь всеми богами Олимпа! – вскричал Спартак громовым голосом и сильно ударил кулаком по столу. Лицо его приняло страшное выражение гнева и ненависти. Но, заметив, что Катилина вздрогнул и пристально поглядел на него, он тотчас сдержался и прибавил с наружным спокойствием: – Нет, не может быть, чтобы такая великая несправедливость была установлена волей богов!
После новой паузы Катилина проговорил с глубоким состраданием в голосе:
– Бедный Друз!.. Я знал его: он был молод, добродетелен и одарен сильным и возвышенным умом. Он пал жертвой измены.
– И я также помню это, – вмешался Требоний. – Я помню, как он закричал сенаторам в комиссии при обсуждении земельного закона: «Какие же уступки возможно сделать народу при вашей алчности, если вы не хотите предоставить ему даже воздуха и грязи?»
– И злейшим врагом его был, – добавил Катилина, – тот самый консул Луций Филипп, которому он спас жизнь, отведя его в тюрьму, когда восставший народ хотел его убить!
– А все же Филиппа успели поколотить так, что кровь хлынула у него носом.
– И, как говорят, Друз вскричал при этом: «Это не кровь, а сок куропаток!» – намекая на обжорство, которому предавался Филипп каждый вечер.
В продолжение этого разговора в задней комнате, в большой зале, раздавались буйные и непристойные крики, которые усиливались соразмерно количеству выпиваемого вина. Вдруг доносившиеся из залы голоса почти хором закричали:
– Родопея! Родопея!
При этом имени Спартак вздрогнул всем телом. Оно напомнило ему родную Фракию, родные горы, семью, отчий дом. Сколько разрушенного счастья, сколько сладостных и горьких воспоминаний!
– Добро пожаловать, добро пожаловать, прекрасная Родопея! – хором кричали мужские и женские голоса.
– Наливайте ей вина! Ведь она за этим и пришла, – сказал могильщик, и все окружили девушку.
Родопея действительно была очень красивая девушка, лет двадцати двух, высокая и стройная, с правильными чертами лица, с длинными белокурыми волосами и живыми, веселыми голубыми глазами. На ней была надета голубая туника, обшитая серебряной бахромой; на руках были серебряные браслеты, а на голове голубое покрывало, спускавшееся на лоб. Вся ее наружность показывала, что она – не римлянка, а рабыня худшего сорта, так как нетрудно было угадать, каким ремеслом она занимается, хотя, быть может, и против своей воли.
И однако, судя по ласковому и сравнительно почтительному обращению с нею грубых и развратных посетителей таверны Венеры Либитины, можно было заключить, что эта девушка выше своего ужасного положения и должна чувствовать себя несчастной, несмотря на свою кажущуюся веселость.
Ее милое лицо и мягкие, учтивые манеры, в которых не было и тени наглости, видимо, действовали на этих грубых людей обуздывающим образом. Она прибежала однажды в таверну Лутации вся в слезах, в кровь избитая своим хозяином, сводником, и попросила глоток вина для подкрепления сил. Это было месяца за два до начала нашего рассказа. С тех пор она заходила в таверну через каждые два-три дня, чтобы отдохнуть четверть часа от той адской жизни, какую заставлял ее вести изо дня в день ее хозяин. В сравнении с этой жизнью минуты, проводимые в таверне, казались ей истинным счастьем.
Родопея сидела возле Лутации, прихлебывая предложенное ей вино, и шум, вызванный ее появлением, уже стихал, когда в противоположном конце залы начали раздаваться новые крики.
Могильщик Лувений, его товарищ по имени Арезий и присоединившийся к ним нищий Велений, разгоряченные чрезмерными возлияниями, принялись ругать патрициев, в том числе и Катилину, хотя все знали, что он находится в смежной комнате. Остальные посетители тщетно старались образумить и унять их.
– Нет, нет, – орал могильщик Арезий, не уступавший в богатырском телосложении атлету Каю Тавривию, – нет, клянусь Геркулесом, нельзя дозволять этим гнусным пиявкам, питающимся нашими слезами и кровью, являться в места нашего отдыха, оскорблять нас своим ненавистным присутствием!
– Знать я не хочу этого кровожадного клеврета Суллы – Катилину, пришедшего сюда издеваться над нашей нищетой, которой мы и обязаны-то прежде всего ему и его друзьям, патрициям! – кричал с пеной у рта Лувений, силясь освободиться из рук атлета, который держал его, боясь, что он ворвется в смежную комнату.
– Замолчишь ли ты, проклятый пьяница? Зачем ты оскорбляешь тех, кто тебя не трогает? Или ты не видишь, что с ним десяток гладиаторов, которые изобьют тебя в тесто, старую клячу?
– Что нам гладиаторы! – бесновался, в свою очередь, бесстыжий Эмилий Варин. – Вы, свободные граждане, боитесь этих жалких рабов, предназначенных на то, чтобы резать друг друга нам на потеху! Клянусь красотой Афродиты, я проучу этого подлеца в пышной тоге, у которого под великолепием патриция скрывается самая низкая душонка! Я отобью у него охоту приходить в другой раз любоваться на нищету плебеев!
– Пусть убирается на Палатин! – кричал Велений.
– Хоть в ад, только вон отсюда! – добавлял Арезий.
– Пускай эти подлые оптиматы[6] оставят нас в покое в наших жалких трущобах Целия, Эсквилина и Субурры и идут околевать среди своей грязной роскоши на форум, Кливий, Капитолий и Палатин!
– Вон патрициев! Вон Катилину! – крикнули разом десять голосов.
Услыхав эти крики, Катилина грозно сдвинул брови и вскочил к места. Требоний и один из гладиаторов пытались удержать его, предлагая собственноручно проучить эту сволочь, но он оттолкнул их и отворил дверь. Загородив ее своей величавой фигурой, он остановился на пороге, скрестил на груди руки и, окинув комнату огненным взглядом, вскричал громовым голосом:
– Эй, вы, глупые лягушки, что расквакались?! Как вы смеете осквернять своими рабскими губами почтенное имя Катилины? Что вам нужно от меня, презренные черви?
Этот грозный голос, казалось, смутил на минуту буйную компанию, но вскоре кто-то крикнул:
– Нам нужно, чтобы ты убрался вон отсюда!
– На Палатин! На Палатин! – крикнуло несколько голосов.
– Иди в гемонию! Там тебе место! – взвизгнул своим женственным голосом Эмилий Варин.
– Хорошо! Попробуйте изгнать меня отсюда! Ну, смелее! Подходи, низкая сволочь! – крикнул Катилина, расправляя руки для борьбы.
Плебеи с минуту стояли в нерешительности.
– Клянусь богами ада, ты не убьешь меня сзади, как бедного Гратидиана, будь ты хоть сам Геркулес! – вскричал, наконец, Арезий, бросаясь вперед.
Но он получил такой увесистый удар в грудь, что пошатнулся и упал на руки стоявших позади. Тем временем и могильщик Лувений бросился на Катилину, но и он тотчас повалился на ближний стол под ударами двух сильных кулаков, застучавших по его лысому черепу.
Испуганные женщины с криком и визгом прижались в угол за скамьей Лутации, между тем как в комнате раздавались удары, топот ног, грохот опрокидываемых столов и скамеек, крики, стоны, проклятия, а из двери смежной комнаты слышались голоса Требония, Спартака и других гладиаторов, убеждавших Катилину пропустить их, чтобы унять буянов.
Между тем Катилина поверг на землю страшным ударом в живот мнимого нищего Веления, который бросился было на него с ножом, и после этого пьяная толпа, сгрудившаяся у дверей в заднюю комнату, отступила. Катилина, схватив свой короткий меч, принялся наносить им плашмя удары по спинам и головам, крича страшным голосом, более похожим на рычание зверя:
– Низкая сволочь! Подлые твари! Вы всегда готовы лизать ноги, которые топчут вас в грязь, и оскорблять того, кто нисходит до вас и желает протянуть вам руку помощи.
Едва Катилина отодвинулся от двери, как из нее, один за другим, выбежали Требоний, Спартак и другие гладиаторы. Пьяная толпа, уже отступавшая перед ударами Катилины, бросилась теперь со всех ног к выходу из таверны, и зала в минуту опустела. В ней оставались только Лувений и Велений, все еще лежавшие на земле, оглушенные и стонущие, да атлет Тавривий, не принимавший никакого участия в борьбе и стоявший у очага, сложив на груди руки с видом беспристрастного зрителя.
– Подлые твари! – рычал Катилина, преследуя убегающих до самой двери. Вернувшись в комнату, он обратился к перепуганным женщинам, продолжавшим вопить: – Замолчите ли вы, проклятые плакальщицы?.. А тебе, глупая сорока, Катилина заплатит за всю эту сволочь. На!
Он бросил пять золотых монет на скамью Лутации, оплакивавшей понесенные ею убытки от погрома и от неоплаченного ужина и вина.
В эту минуту Родопея, всматривавшаяся в лица гладиаторов, вдруг широко раскрыла глаза и побледнела.
– Я не ошибаюсь… нет, не ошибаюсь: это Спартак! Это мой милый Спартак! – вскричала она, приближаясь к фракийцу.
– Кто ты? – спросил тот, быстро обернувшись на звуки ее голоса. – Мирдза!.. Сестра! – вскричал он с волнением, всмотревшись в лицо молодой девушки.
И среди воцарившегося безмолвия удивленных зрителей брат с сестрой бросились в объятия друг друга.
Но после первой бури поцелуев и слез Спартак высвободился из объятий сестры и, отстранив ее не много от себя, осмотрел с ног до головы. Лицо его мертвенно побледнело и голос задрожал.
– Но ты… ты… чем ты стала? – вскричал он с отчаянием, презрительно отталкивая от себя сестру.
– Я – рабыня, – ответила несчастная сквозь слезы, – рабыня негодяя… О, выслушай меня, Спартак! Ведь под розгами… под пытками раскаленным железом…
– Несчастная! – вскричал гладиатор, дрожа от волнения, и крепко прижал сестру к своей груди.
Он долго ласкал и целовал ее, а потом, подняв к потолку полные слез глаза и потрясая своим мощным кулаком, громко вскричал:
– И Юпитер допустил это, имея громы в своих руках!.. Нет, он – не бог! Он – обманщик, презренный шарлатан!
Мирдза рыдала, припав на широкую грудь своего брата.
– Да будет проклята, – закричал он диким голосом после минутной паузы, – да будет проклята память первого человека на земле, от семени которого произошли два столь различных рода: свободные люди и рабы!
IV. О том, как Спартак пользовался свободой
Прошло два месяца со времени событий, описанных в предшествовавшей главе. Утром, накануне январских ид (12 января) следующего года по улицам Рима дул сильный ветер и гнал серые облака, заволакивавшие небо, придавая ему мрачный однообразный тон. В воздухе носились хлопья снега, медленно падавшие на землю, покрывая грязью мостовую.
Граждане, собравшиеся по своим делам на форуме, лишь изредка показывались на площади, но зато тысячами толпились под арками форума, курии Гостилии, Грекостазии (дворца посланников), храма Согласия, построенного диктатором Фурием Камиллом в память достигнутого им мирного соглашения между плебеями и патрициями, храма Весты, базилики Эмилия и других зданий, окружавших форум.
Базилика Эмилия была построена одним из предков Марка Эмилия Лепида, который был консулом в этом году, вступив в эту должность в начале января, одновременно с другим консулом, Квинтом Лутацием Катуллом.
В величественном здании базилики толпилось в это утро особенно много народу, и галереи его были полны. В одной из галерей, опершись на мраморные перила, стоял Спартак и рассеянно глядел на сновавшую внизу толпу.
На нем была голубая туника, поверх которой был накинут темно-красный греческий паллий, пристегнутый серебряной пряжкой.
Неподалеку от него стояли трое граждан и с живостью о чем-то рассуждали. Двое из них уже знакомы читателям: это были атлет Кай Тавривий и мим Эмилий Варин. Третий принадлежал к многочисленному классу тех римских граждан, которые жили изо дня в день подачками патрициев, называли себя их клиентами, сопровождали их на форум и в комиции, подавали голоса за тех, за кого им прикажут, рукоплескали, льстили своим патронам и постоянно выклянчивали у них подачки.
Это были времена, когда победы в Азии и Африке привили римлянам страсть к роскоши и к восточной неге, времена, когда огромное и постоянно растущее число рабов, исполнявших все работы и дела, которые в прежние времена исполнялись трудолюбивыми гражданами, что искоренило в римлянах любовь к труду, первое и необходимое условие силы, нравственности и процветания нации. Под наружным блеском и могуществом в Риме уже созревали семена близкого упадка.
Каждый патриций, консул или просто честолюбивый богач вел за собой свиту в пятьсот – шестьсот клиентов, а были и такие, которые имели в своем распоряжении до тысячи подобных людей, и звание клиента стало своего рода профессией, как профессия кузнеца, токаря.
К этой категории людей принадлежал и человек, беседовавший в галерее базилики Эмилия с Тавривием и Варином. Его именовали Апулеем Тудертином, потому что предки его были родом из Тоди, он был клиентом Марка Красса.
Разговор шел в этой группе об общественных делах, но Спартак, хотя и стоявший поблизости, ничего не слышал, погруженный в свои печальные думы. С тех пор как он встретил свою сестру и узнал, в каком ужасном положении она находится, единственной думой его, единственной целью стало освобождение ее из рук негодяя, подвергавшего Мирдзу такому унижению. Катилина, со свойственной ему щедростью, на этот раз, впрочем, не совсем бескорыстно, тотчас предоставил в распоряжение Спартака и остальные восемь тысяч сестерциев, выигранных у Долабеллы, с целью помочь фракийцу выкупить его сестру у ее патрона.
Спартак принял деньги с благодарностью, обещая возвратить их при первой возможности, о чем Катилина и слышать не хотел, и немедленно отправился к патрону Мирдзы, чтобы предложить ему выкуп за нее. Но тот, заметив, как горячо желает бывший гладиатор освобождения этой невольницы, заломил за нее неслыханную цену. Он стал уверять, что заплатил за нее двадцать пять тысяч сестерциев, причем солгал ровно наполовину, что ввиду ее молодости, красоты и скромности она представляет для него капитал в пятьдесят тысяч сестерциев, и клялся Меркурием и Венерой, что дешевле этой суммы он не может отдать ее.
Невозможно описать, что почувствовал Спартак при таком заявлении. Он просил, умолял, но все было напрасно: торговец человеческим телом знал, что закон на его стороне, и оставался неумолимым.
Наконец, Спартак в бешенстве схватил его за горло и задушил бы в несколько секунд, если бы, к счастью негодяя, его не остановила одна мысль. Он вспомнил о сестре, о своем отечестве, о тайном предприятии, главою которого он был и которое разрушилось бы без него.
Эта мысль заставила его выпустить из рук хозяина Мирдзы, который с выкатившимися из орбит глазами, с посиневшим лицом, почти полуживой, долго не мог прийти в себя. Немного погодя Спартак спросил его спокойным тоном, хотя лицо его было еще бледно и он весь дрожал от волнения и бешенства:
– Так ты хочешь… пятьдесят тысяч сестерциев?
– Ничего я не хочу… убирайся… убирайся в ад, или я позову моих рабов!
– Прости меня… я погорячился… Пойми: бедность… братская любовь… Выслушай меня: быть может, мы сойдемся…
– Сойдемся… с таким головорезом, который душит людей с первого же слова! – проговорил хозяин, несколько успокоившись и потирая свою шею. – Нет, убирайся вон! Вон!
Однако мало-помалу фракийцу удалось успокоить его и сговориться с ним. Они порешили, что Спартак немедленно вручит ему две тысячи сестерциев при условии, что он поселит Мирдзу в отдельном помещении, в своем доме, где поселится также и Спартак. Но если последний не внесет через месяц остальной суммы, то владелец ее снова вступит во все свои права. Ауреи блестели соблазнительно, и сделка была самая выгодная для патрона, который выигрывал по меньшей мере тысячу сестерциев, ничем не рискуя. Он согласился.
Спартак, повидавшись с сестрой и поместив ее в маленькой комнатке во флигеле дома ее хозяина, отправился прямо в Субурру, где жил Требоний. Он рассказал ему о своем горе, прося помощи и совета. Требоний старался успокоить его, советовал не падать духом и обещал употребить все усилия, чтобы помочь ему если не освободить свою сестру, то, по крайней мере, предохранить ее от унижений.
Успокоившись немного с этой стороны, Спартак отправился к Катилине и с благодарностью возвратил ему взятые в кредит восемь тысяч сестерциев, в которых он теперь не нуждался. Патриций долго беседовал с ним в своей библиотеке, и, судя по предосторожностям, принятым Катилиной, чтобы никто не мог помешать, надо полагать, что разговор шел между ними о предметах важных и серьезных. С этого дня Спартак довольно часто приходил к патрицию, и все показывало, что между ними есть связь, основанная на взаимном уважении и дружбе.
Между тем с того дня, как Спартак стал свободным, бывший хозяин его, ланист Ациан, не переставал приставать к нему с советами и предложениями. Сначала он доказывал ему необеспеченность его настоящего положения и наконец предложил ему или взять на себя управление его школой, или же, что, по его мнению, было бы еще лучше для фракийца, добровольно продаться ему в гладиаторы. За это он предлагал ему такую цену, какой не получал еще ни один доброволец этого рода.
Само собой разумеется, что Спартак наотрез отверг его предложения и дал ему ясно понять свое желание, чтобы он не надоедал ему своим присутствием; однако тот не переставал преследовать его, словно злой дух. Требоний, который любил Спартака и, быть может, основывал на нем какие-нибудь надежды, принял живое участие в положении Мирдзы. Будучи другом Гортензия и горячим поклонником его красноречия, он предложил через него его сестре Валерии купить Мирдзу себе в служанки, рекомендовал ее как красивую и образованную девушку, умеющую говорить по-гречески и довольно опытную в приготовлении благовонных масл и духов.
Валерия была не прочь купить Мирдзу, но предварительно пожелала видеть ее. Она поговорила с ней; девушка понравилась ей, и сделка быстро состоялась. Валерия заплатила за Мирдзу сорок тысяч сестерциев и увела ее, как и других своих рабынь, в дом Суллы, своего мужа, с 15 декабря.
Хотя такой исход и не вполне удовлетворял Спартака, который предпочел бы взять сестру к себе, однако все же это было лучшее, на что он мог рассчитывать при данных обстоятельствах; он питал надежду, что теперь сестра его навсегда избавлена от позора.
Успокоенный с этой стороны, он весь отдался какому-то таинственному и, видимо, очень важному делу. Он часто навещал Катилину и вел с ним долгие беседы наедине. Каждый день можно было встретить его в одной из гладиаторских школ Рима, а по вечерам – в тавернах Субурры или Эсквилина, – вообще в тех местах, которые посещались гладиаторами и рабами.
Что же он замышлял? К какому делу готовился?
Это объяснится впоследствии, а пока вернемся в галерею базилики, где он стоял, до такой степени погруженный в свои думы, что не слышал ни слова из того, что говорилось близ него, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где Тавривий, Варин и Апулей Тудертин громко беседовали и смеялись.
– И хорошо сделал, хорошо сделал! – кричал Тавривий.
– А-а!.. Этот добрый Сулла воображал, что он может уничтожить памятники славы Мария! Ха! Счастливый диктатор полагал, что для этого достаточно снять его статую и триумфальную арку и часть его побед над кимврами и тевтонами! Жалкий самообман!.. Нет! Он может при своем могуществе и жестокости опустошить целый город, перебить всех его жителей, превратить Италию в груду развалин, но изгладить из памяти людей победу над Югуртой и битву при Сестийских Водах – это не в его силах!
– Бедный глупец! – вскричал своим визгливым голосом Эмилий Варин. – Наперекор всем его стараниям консул Лепид взял да и украсил эту базилику великолепными бронзовыми барельефами, изображающими победы Мария.
– Этот Лепид – заноза в глазу у нашего счастливого диктатора!
– Э, полно вам! Что такое Лепид? – презрительно сказал толстый клиент Красса. – Что он значит перед Суллой? То же, что комар перед слоном.
– Но разве ты не знаешь, что он не только консул, но и богач – богаче твоего Красса?
– Знаю, что он богат, но вряд ли богаче Красса. Да хотя бы и так, что же он может сделать Сулле со всем своим богатством?
– А то, что он привлечет на свою сторону народ.
– Как бы не так! Народ осуждает его непомерную роскошь.
– Не народ осуждает его, а патриции, которым завидно, что они не могут жить так, как он.
– А знаете ли, в этом году случится что-нибудь необычайное.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что в деревне Аримино произошло небывалое чудо: на вилле Валерия петух заговорил человеческим голосом.
– Да?.. Ну, если это правда, так действительно должно случиться что-нибудь необычайное…
– Если правда!.. Да весь Рим говорит об этом. Сам Валерий, вернувшись сюда из Аримино, рассказывал это; и вся его семья, и друзья, и слуги говорят то же самое.
– Чудеса! – пробормотал Апулей. Он был чрезвычайно суеверен и религиозен, поэтому слух этот произвел на него сильное впечатление: он крепко задумался о значении этого чуда, считая его за предостережение свыше.
– Авгуры уже собрались, чтобы разгадать тайный смысл этого удивительного явления, – громко заявил Варин и, подмигнув атлету, прибавил: – Что касается меня, то хотя я и не авгур, значение этого чуда ясно мне как день.
– О! – вскричал Апулей с удивлением.
– Нечему тут и удивляться.
– Ого! – воскликнул на этот раз насмешливо клиент Марка Красса. – Так разъясни же его и нам, если ты понимаешь его смысл лучше самих авгуров.
– И разъясню. Это богиня Веста, разгневанная поведением одной из своих жриц, посылает предостережение.
– Ха! ха! Понимаю! Отлично сказано! Наверное, так оно и есть, – со смехом сказал Кай Тавривий.
– Завидую вам, что вы так хорошо понимаете, а вот я так признаюсь, ничего не понимаю в этом случае.
– Полно морочить-то нас!
– Клянусь богами, не понимаю.
– Ладно! Варин подразумевает преступную связь весталки Лицинии с твоим патроном Крассом.
– Ложь и клевета! – с негодованием вскричал верный клиент.
– Это такая гнусная ложь, о которой и думать-то не следовало бы, а не только говорить.
– И я то же говорю, – иронически заметил Варин. – Но поди разуверь этих добрейших квиритов! Они хором кричат о святотатственной любви твоего патрона к красивой весталке.
– Повторяю вам, что это клевета.
– Слушай, любезный Апулей, с твоей стороны понятно и похвально отрицать это, но нас ты не проведешь, клянусь Меркурием! Любви не спрячешь; она просится наружу. Если бы Красс не любил Лицинию, то не сидел бы возле нее на всех публичных собраниях, не осаждал бы ее своим ухаживанием и своими нежными взглядами. Ведь мы понимаем, что это значит, и сколько ты ни тверди «нет», а мы все-таки будем говорить «есть». Моли-ка лучше Венеру Мурцийскую со всем жаром, какой придают тебе щедроты Красса, чтобы не сегодня завтра в это дело не вмешался цензор.
В эту минуту какой-то человек среднего роста, но геркулесова телосложения, с черными глазами и черной бородой и с энергическими чертами смуглого лица, подошел к Спартаку и слегка ударил его рукой по плечу.
– Ты так погрузился в свои думы, что глядишь и не видишь ничего перед собой, – сказал он ему.
– А! Крикс! – вскричал Спартак, проведя рукой по лбу как бы с тем, чтобы разогнать свои мысли. – Я не заметил тебя.
– А ведь глядел на меня, когда я проходил внизу мимо тебя с нашим ланистом Ацианом.
– Черт бы его побрал!.. Ну, что скажешь?
– Я виделся с Арториксом. Он вернулся из своего странствования.
– Был в Капуе?
– Был.
– Сговорился с кем-нибудь?
– С одним германцем, неким Эномаем, самым энергичным и смелым в школе. Он считается силачом.
– Ну и что же? – нетерпеливо спросил Спартак, глаза которого радостно заблестели.
– У этого Эномая такие же планы и надежды, как и у нас. Он сейчас же ухватился за нашу мысль и дал клятву Арториксу, что будет пропагандировать наше священное и справедливое дело, – прости, что я говорю «наше», когда должен был бы сказать «твое»! – среди наиболее энергичных гладиаторов школы Лентула Батиата.
– Ах! – воскликнул Спартак в неописуемом волнении. – Если бы боги олимпийские оказали поддержку несчастным угнетенным, то, я уверен, через несколько лет рабство исчезло бы с лица земли.
– Только Арторикс передавал мне, – продолжал Крикс, – что этот Эномай хотя и очень храбр, но опрометчив, неосторожен и непредусмотрителен.
– А! Это нехорошо… это плохо!
– И я подумал то же самое.
Оба гладиатора помолчали, и потом Крикс спросил Спартака:
– А Катилина что говорит?
– Я начинаю убеждаться, что он никогда не присоединится к нашему делу, – ответил Спартак.
– Значит, его прославленное величие души – пустая сказка?
– Нет, у него великая душа и великий ум, но его чисто римское воспитание привило ему неискоренимые предрассудки. Я подозреваю, что он хочет только ниспровергнуть с помощью наших мечей существующий порядок, а не изменить варварские законы, которым Рим подчиняет остальной мир.
Спартак помолчал и потом прибавил:
– Сегодня вечером у него соберутся его друзья, и я также буду там, чтобы договориться насчет общего плана действий. Боюсь, однако, что из этого ничего не выйдет.
– Так наша тайна известна ему и его друзьям?..
– Не беспокойся, они не выдадут ее, даже если мы не сговоримся с ними. Римляне так презирают рабов и гладиаторов, что никогда не поверят, чтобы мы были способны угрожать их власти.
– Это правда: они даже не смотрят на нас как на людей. Ах, Спартак, Спартак… – прошептал Крикс, и глаза его загорелись ненавистью, – если ты устоишь в своем предприятии, несмотря на все препятствия, я буду благодарен тебе за это больше, чем за спасение моей жизни в цирке. Дай нам возможность помериться силами в открытом поле, под твоей командой, с этими гордыми притеснителями и доказать им, что мы такие же люди, как и они, а не низшая раса!
– О, я не отступлюсь от своего дела до конца жизни! Я вложу в него всю свою энергию, всю свою душу и доведу его до конца или погибну!
Спартак произнес эти слова твердым и убежденным тоном, пожимая руку Крикса, и тот прижал его руку к своему сердцу, в волнении говоря:
– Спартак, спаситель мой, ты рожден для великих дел! Из людей твоей силы воли выходят герои.
– Или мученики! – грустно пробормотал Спартак, опустив голову.
В это время резкий голос Эмилия Варина прокричал:
– Идем, Кай! Идем, Апулей! Заглянем в храм Раздора, чтобы послушать совещания сената!
– А сенат совещается сегодня в храме Согласия? – спросил Тудертин.
– Да.
– В старом или в новом?
– Глуп ты, брат! Если тебе говорят: идем в храм Раздора, значит, подразумевается храм Лудия Опилия, построенный на крови притесненного народа и в память гнусного убийства Гракхов.
Все трое направились к лестнице, которая вела к порталу базилики, а немного погодя последовали за ними и оба гладиатора.
Под портиком к фракийцу подошел Ациан и спросил:
– Когда же ты решишься, Спартак, вернуться в мою школу?
– Провались ты в Стикс со своей школой! – гневно вскричал гладиатор, обернувшись к своему бывшему патрону. – Когда ты оставишь меня в покое и перестанешь мозолить мне глаза своим видом?
– Но ведь я желаю тебе добра, Спартак, – вкрадчиво проговорил Ациан. – Ведь я забочусь о твоей будущности.
– Слушай, Ациан, и намотай себе на ус мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекунах, а если бы и нуждался, то не к тебе пришел бы за этим. Постарайся не попадаться мне более на глаза, а если опять попадешься, то, клянусь Юпитером, я так хвачу тебя кулаком по твоей лысой голове, что отправлю тебя прямо в ад, чего бы мне это ни стоило!
Ланист рассыпался в извинениях, продолжая уверять в своей дружбе, и Спартак прибавил:
– Убирайся же в свою нору и не попадайся мне более на глаза.
Оставив смущенного ланиста под портиком базилики, оба гладиатора направились через форум к Палатину. Там находился портик Катулла, где Катилина назначил встречу Спартаку.
Дом Катулла, бывшего консулом в одно время с Марием за двадцать четыре года до описываемых событий, принадлежал к числу роскошнейших зданий в Риме. Великолепный портик его, украшенный трофеями, отбитыми у кимвров, в том числе бронзовым быком, перед которым кимвры приносили присягу, служил сборным местом римских женщин, упражнявшихся здесь в гимнастических играх. Это привлекало сюда и римскую молодежь, патрициев и всадников, не упускавших случая полюбоваться на красивых дочерей Рима.
Когда гладиаторы подошли к дому Катулла, вокруг портика стояла уже плотная толпа мужчин, глазевшая на женщин, которых в этот день было особенно много по случаю дождя и снега на улице.
Действительно, тут было чем залюбоваться: сотни рук, словно выточенных из мрамора, белоснежные груди, едва прикрытые легкой тканью, олимпийские плечи, – и все это осыпано золотом, жемчугом, камеями, драгоценными камнями и увито живописными складками пеплумов и палл из тончайших шерстяных тканей.
Здесь блистали красотой: Аврелия Орестилла – любовница Катилины Семпрония, молодая, но величаво-прекрасная, прозванная Великой за свой ум, ей суждено погибнуть в битве при Арецо, сражаясь с мужской храбростью рядом с Катилиной, Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, весталка Лициния, мать юного Катона Ливия и сотни других матрон и девушек, принадлежавших к знатнейшим римским фамилиям.
Под обширным портиком некоторые из этих молодых патрицианок занимались гимнастикой; другие играли в «паллу», любимую игру римлян; большая же часть просто прохаживалась парами или группами, чтобы согреться в этот зимний день.
Спартак и Крикс приблизились к портику Катулла, стараясь держаться, как подобает людям низкого звания, позади патрициев и всадников, и стали искать глазами Катилину. Он разговаривал у одной из колонн с Квинтом Курием, известным пьяницей и развратником, благодаря которому был впоследствии открыт заговор Катилины, и с Луцием Бестием, который был консулом плебейской партии в год этого заговора. Гладиаторы подошли к патрицию в ту минуту, когда он говорил своим друзьям, саркастически улыбаясь:
– Я расскажу когда-нибудь весталке Лицинии, за которой увивается этот толстяк Красс, об его любовной интрижке с Эвтибидэ.
– Да, да, – подхватил Луций Бестий, – скажи ей, что он подарил Эвтибидэ двести тысяч сестерциев.
– Марк Красс подарил женщине двести тысяч сестерциев! – вскричал Катилина. – Да ведь это чудо поудивительнее того, что петух заговорил в Аримино человеческим голосом.
– Это удивительно только ввиду его скупости, а в сущности, что значит для Красса двести тысяч сестерциев?
– То же, что песчинка в песках Тибра, – заметил Квинт Курий.
– Твоя правда, – сказал Луций Бестий, глаза которого загорелись алчностью. – Ведь у него больше семи тысяч талантов.
– А ведь это больше полутора биллионов сестерциев!
– Страшная сумма! Невероятная! А ведь это доподлинно так.
– Вот что делается в нашей благоустроенной республике! – с горечью заметил Катилина. – Человеку ограниченного ума с ничтожной душонкой открыты все пути к власти и славе! Я, например, чувствующий в себе силу и способность быть полководцем, одерживать победы, не могу добиться никакого видного поста, потому что беден и запутан в долгах; а если бы Крассу пришла завтра в голову тщеславная мысль сделаться правителем какой-нибудь провинции или командовать армией в каком-нибудь походе, он сейчас же получил бы все, чего хочет, потому что он в состоянии подкупить не только голодную чернь, но и богатый и жадный сенат.





