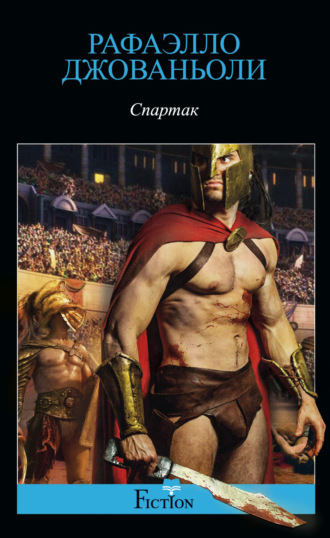
Рафаэлло Джованьоли
Спартак
После этих слов оба помолчали.
– Но как это произошло? – выдержав паузу, спросил Цицерон, обращаясь к ментору отрока Сарпедону.
– Ввиду ежедневных убийств, которые совершаются по приказанию Суллы, – ответил тот, – я взял за правило водить в месяц раз этих двух мальчиков в гости к Сулле для того, чтобы этот кровожадный человек считал их своими друзьями и чтобы ему не могла прийти в голову мысль распространить на них проскрипцию. И он действительно всегда принимал их благосклонно и отпускал с ласковыми словами. Но однажды, когда, выйдя от него, мы переходили форум, до нашего слуха донеслись из Мамертинской тюрьмы душераздирающие вопли…
– Я спросил Сарпедона, – перебил Катон, – кто так кричит, и он ответил: «Граждане, которых убивают по повелению Суллы». – «За что же их убивают?» – спросил я. «За то, что они стоят за свободу».
– И тогда этот сорванец, – перебил в свою очередь ментор, – закричал громким голосом, который, к несчастью, был услышан близстоящими: «О, зачем ты не даешь мне меча, чтобы я мог убить этого жестокого тирана отечества?!»
– А как ты узнал об этом случае? – спросил Сарпедон, помолчав.
– О нем уже многие говорят, и все восторгаются гражданским мужеством этого мальчика, – ответил Цицерон.
– Значит, того и гляди об этом узнает и сам Сулла, – с отчаянием произнес ментор.
– Пускай узнает! – презрительно сказал Катон, насупив брови. – Я повторю мои слова и в присутствии этого человека, перед которым вы все трепещете. Я хотя и отрок, а не боюсь его, клянусь всеми богами Олимпа!
Цицерон и ментор с удивлением переглянулись поверх его головы, а мальчик горячо прибавил:
– Ах, если бы я уже носил тогу.
– Да что бы ты сделал тогда, сумасброд? – спросил Цицерон и тотчас прибавил: – Помолчи-ка лучше!
– Я привлек бы к суду Суллу, обвинил бы его перед народом…
– Замолчи, замолчи, говорят тебе! – прервал Цицерон. – Ты всех нас погубишь. Я и без того навряд ли пользуюсь благоволением бывшего диктатора: ведь я имел неосторожность воспеть подвиги Мария и защищал в суде два дела, в которых Сулла был противником моих клиентов. Или ты хочешь твоими безрассудными словами дать ему предлог отправить и нас к бесчисленным жертвам своей безумной свирепости? Разве Рим избавится от его роковой власти, если и нас убьют? Страх застудил в жилах римского народа кровь его предков, а Сулла к тому же счастлив и всемогущ.
– Лучше было бы, если бы он, вместо прозвища Счастливый, заслужил прозвище Справедливый, – проворчал Катон.
Однако он последовал совету Цицерона и, поворчав, умолк.
Тем временем народ потешался фарсом, представляемым на арене двадцатью полуслепыми андабатами, – фарсом кровавым и жестоким, в котором все двадцать злополучных гладиаторов должны были расстаться с жизнью.
Сулла, которому уже прискучило это зрелище и который был поглощен одной мыслью, засевшей в его мозгу в последние часы, встал и направился к тому месту, где сидела Валерия. Он ласково поклонился ей, не сводя с нее долгого взгляда, и спросил, стараясь сделать свой голос возможно мягче и нежнее:
– Ты свободна, Валерия?
– Мой муж разошелся со мной несколько месяцев назад, хотя без всякой позорной вины с моей стороны, если только…
– Да, я знаю, – перебил Сулла, с которого Валерия не сводила нежного взгляда своих черных глаз.
После минутного молчания диктатор спросил, понизив голос:
– Будешь ты любить меня?
– Всеми силами моей души, – ответила молодая женщина, потупив глаза, с обворожительной улыбкой.
– И я люблю тебя, Валерия, как никогда еще, мне кажется, не любил, – проговорил Сулла дрожащим голосом.
Он с минуту молча на нее глядел, потом взял ее руку, страстно прижал ее к своим губам и прибавил:
– Через месяц ты будешь моей женой.
Сказав это, он удалился из цирка в сопровождении своих друзей.
III. Таверна Венеры Либитины
В одном из самых отдаленных, узких и грязных переулков Эсквилина, близ древней стены Сервия Туллия и у самых Кверкветуланских ворот, находилась таверна, открытая днем и ночью, преимущественно ночью. Она носила название таверны Венеры Либитины, или Венеры Погребальной, покровительницы кладбищ и могил. Такое название объяснялось тем, что за Эсквилинскими воротами по одну сторону лежало кладбище для плебеев, а по другую тянулось до самой Сессорийской базилики широкое поле, на которое выбрасывали трупы рабов и преступников, предназначавшиеся на съедение волкам и хищным птицам. На этом поле, заражавшем своим зловонием всю окрестность, богач Меценат развел спустя полвека свои знаменитые огороды, доставлявшие своему владельцу превосходные овощи и фрукты благодаря обильному удобрению плебейскими костями.
Над входом в таверну находилось изображение Венеры, но более похожее на безобразную мегеру, чем на богиню красоты. Болтавшийся по воле ветра фонарь освещал эту бедную Венеру, которая не выиграла бы, впрочем, и от лучшего освещения. Но и этого скудного освещения было достаточно для привлечения внимания прохожих к иссохшей буковой ветке, торчащей над дверью, и для нарушения мрака, царившего в этом грязном переулке.
Посетитель, войдя в низкую дверь и спустясь по камням, положенным один на другой и заменявшим ступени, проникал в сырую и почерневшую от копоти комнату. Направо от входа помещался камин, в котором пылал огонь и варились в котлах различные кушанья; но лучше было не вникать, из чего их составляла хозяйка таверны, Лутация Монокола. Возле камина четыре терракотовые статуэтки изображали ларов, богов, покровительствующих дому, перед которыми лежали венки и букеты высохших цветов. Перед камином, на потертой позолоченной скамье, обтянутой красной материей, восседала хозяйка таверны в минуты, свободные от обслуживания посетителей. Вокруг стен тянулись скамьи, перед которыми стояли старые столы, а посреди потолка висела оловянная лампа с четырьмя рожками, еле освещавшими большую комнату.
Против входной двери находилась дверь во вторую комнату, немного поменьше и почище первой; стены второй комнаты были расписаны самыми непристойными изображениями. Очевидно, писавший был не из стыдливых. В углу этой комнаты горела лучерна с одним рожком, оставлявшая часть комнаты в полной темноте и бросая слабый полусвет на две кровати.
Около часа ночи после описанного нами дня, 10 ноября 675 года, таверна Венеры Либитины была переполнена посетителями, оглашавшими шумными разговорами не только стены, но и весь переулок.
Лутация Монокола со своей негритянкой-рабыней, черной как смола, разрывались, чтобы удовлетворить всех своих шумных и проголодавшихся клиентов. Лутация, рослая, жирная и краснощекая женщина, могла бы еще назваться красивой, несмотря на свои сорок пять лет и седеющие каштановые волосы, если бы лицо ее не было обезображено большим шрамом. Он начинался на лбу, пересекал правый глаз, веко которого было опущено над вытекшим глазным яблоком, и спускался на нос, лишенный одной ноздри. За это увечье Лутация и получила прозвище Моноколы, то есть одноглазой.
История этого шрама относилась к давним временам. Лутация была женой легионера Руфина, храбро сражавшегося в свое время в Африке против Югурты. Когда после победы над этим царем Кай Марий вернулся триумфатором в Рим, Руфин возвратился вместе с ним. Лутация была в ту пору еще красавицей и не очень строго подчинялась закону о супружеской верности, заключавшемуся в двенадцати таблицах римского кодекса. Однажды муж ее, приревновав к соседнему мяснику, выхватил свой меч и убил его, а затем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти своей жены правило упомянутого закона, нанес и ей рану, изуродовавшую ее навеки. Полагая, что он убил ее, и опасаясь ответственности за убийство, – не жены, а мясника, – он счел за лучшее бежать и сложить свою голову под командой боготворимого им полководца, Кая Мария, когда этот славный арпинский крестьянин разбил наголову тевтонские орды при Сестийских Водах и спас Рим от грозившей ему страшной опасности.
Лутация, оправившись от долгой болезни вследствие тяжкой раны, дополнила собранной милостыней кое-какие бывшие у нее сбережения и арендовала таверну, которую благодаря великодушию Метелла Нумидийского она получила потом в дар.
При всем своем безобразии бойкая, веселая и услужливая Лутация еще внушила не одну сильную страсть, и между поклонниками ее не раз доходило дело до драки. Следует, впрочем, прибавить, что таверна Венеры Либитины посещалась только подонками римской черни: могильщиками, гладиаторами и комедиантами самого низкого пошиба, нищими, мнимыми калеками и проститутками.
Но Лутация Монокола не отличалась строгостью нравов. Она знала, что богатые люди, патриции и всадники, не пойдут в ее таверну, и притом опыт убедил ее, что сестерции бедняка и мошенника ничем не отличаются от сестерциев честного гражданина и гордого патриция.
– Скоро ли, черт возьми, нам подадут эти проклятые битки? – крикнул громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.
– Бьюсь об заклад на сто сестерциев, что Лувений принес хозяйке с Эсквилинского поля мертвечину, оставшуюся от воронов, вот из чего она стряпает свои битки! – воскликнул в свою очередь сидевший возле гладиатора нищий, притворявшийся калекой.
Гнусная шутка его вызвала громкий хохот окружающих, но не пришлась по вкусу Лувению. Это был толстый, приземистый, бородатый могильщик, с красным, грубым лицом, усеянным прыщами и не выражавшим ничего, кроме тупого равнодушия.
– Как честный могильщик, прошу тебя, Лутация, состряпай битки для Веления (так звали нищего) из того бычачьего мяса, что он привязывает к своей груди, чтобы разжалобить добросердечных граждан своими мнимыми язвами.
Вызвала хохот и эта шутка.
– Если бы Юпитер не был трусом и не предпочитал дрыхнуть, то он должен был бы испепелить своими громами эту бездонную пропасть грязи, носящую имя Лувения.
– Клянусь черным скипетром Плутона, я так изобью кулаками твою безобразную морду, что ты у меня запросишь пощады! – в бешенстве закричал могильщик, вскочив с места.
То же самое сделал и Велений, сжимая кулаки и крича:
– Попробуй, хвастун! Ну-ка, подойди! Я тебя отправлю к Харону! Не пожалею и монеты, чтобы всадить тебе ее в волчьи зубы для платы за переправу[4].
– Замолчите, старые одры! – заорал Кай Тавривий, колоссальный атлет из цирка, собиравшийся играть в кости. – Замолчите, или, клянусь богами, я схвачу вас обоих и так стукну головами, что размозжу вам черепа.
К счастью, Лутация и негритянка Азур поставили в эту минуту на столы два огромных блюда с дымящимися битками, на которые с жадностью набросились две многочисленные группы присутствующих. Между этими счастливцами тотчас же воцарилось молчание, так как все пожирали битки, находя их превосходными. Тем временем в других группах, среди стука бросаемых костей и площадных ругательств, велись разговоры о главном событии дня – о борьбе гладиаторов в цирке. Люди свободные, которым удалось быть на этом зрелище, рассказывали о нем чудеса тем, которые, находясь в рабском состоянии, не имели права присутствовать в цирке. И все превозносили до небес храбрость и силу Спартака.
Между тем проворная Лутация принесла кровяную колбасу остальным посетителям, и на некоторое время всякие разговоры прекратились. Первым прервал молчание старый гладиатор.
– Я двадцать два года сражался на аренах, – вскричал он, – и вынес свою шкуру хотя заштопанной и перештопанной, что уже одно должно дать вам понятие о моем искусстве и храбрости, но такого искусного фехтовальщика и такого силача, как этот непобедимый Спартак, я еще не видывал.
– Будь он римлянин, – добавил с покровительственным видом атлет Тавривий, – природный римлянин, он был бы вполне героем.
– Жаль, что он варвар! – с пренебрежением заметил Эмилий Варин, красивый двадцатилетний юноша, лицо которого носило уже явные следы разврата и преждевременной старости.
– А все-таки, скажу я вам, он счастливчик, этот Спартак! – вмешался старый африканский легионер с широким шрамом на лбу и хромой от раны в ногу. – Дезертир, а получил свободу! Видано ли это? Надо полагать, что Сулла находился в наилучшем расположении духа, если оказал такую милость.
– Можно себе представить, как обозлился ланист Ациан! – заметил старый гладиатор.
– Хе!.. Он кричит теперь, что его ограбили, зарезали.
– А ведь ему щедро заплатили за его товар.
– Но и товар, надо признаться, хороший!
– Не спорю, но ведь и двести двадцать тысяч сестерциев – деньги хорошие!
– Еще бы, черт возьми!
– Клянусь Геркулесом! – вскричал атлет. – Достанься они мне, я доставил бы себе все наслаждения, какие можно добыть за деньги.
– Ты!.. А мы, думаешь, не сумели бы пристроить их как следует?
– Все умеют тратить деньги, не все только умеют наживать их.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что Сулле достались трудом его богатства?
– Первые-то он добыл от женщины, от Никополии.
– Да, она была уже немолода, когда влюбилась в него, а он был еще молод и хотя не красавец, но все же не такой безобразный, как теперь.
– Умирая, она завещала ему все свои богатства.
– Во времена своей первой молодости он был далеко не богат, – прибавил атлет. – Я знаю гражданина, в доме которого он жил много лет нахлебником, платя за это по три тысячи сестерциев в год.
– А потом, во время войны с Митридатом и после взятия Афин, он захватил себе львиную часть добычи.
– А проскрипции?.. Кто же поверит, что богатства семнадцати консулов, сотни преторов, шестидесяти эдилов и квесторов, трехсот сенаторов, тысячи шестисот всадников и семидесяти тысяч граждан, зарезанных по его повелению, – что все эти богатства поступили полностью в казну, а на его личную долю не перепало ничего?
– Хотелось бы мне иметь хоть частичку того, что досталось на его долю от проскрипций!
– И все же, – заметил Эмилий Варин, получивший в юности образование и расположенный в этот вечер философствовать, – все же этот человек, сделавшийся из бедняка богачом и из ничтожества – владыкой Рима, которому римский народ воздвиг золотую статую с надписью: «Корнелию Сулле, счастливому императору», – страдает болезнью, против которой бессильны все лекарства и все его золото!
Размышление это произвело впечатление на всех присутствующих, и все грустно воскликнули:
– Правда! Правда!
– Поделом ему, этому лютому зверю в человеческом образе! – вскричал хромой легионер, который в качестве ветерана африканских войн поклонялся памяти Кая Мария. – Это ему отплата за кровь шести тысяч самнитов, которые сдались ему под условием сохранения жизни и которых он велел потом всех перебить из луков в цирке. Когда от раздирающих криков этих несчастных все сенаторы, собравшиеся в курии Гостилии, в ужасе вскочили с мест, этот зверь Сулла имел жестокость хладнокровно сказать: «Не обращайте внимания на эти крики, почтенные отцы, это наказывают преступников по моему приказанию. Продолжайте ваши прения».
– А бойня в Принесте, где он велел перебить все население в двенадцать тысяч человек, не разбирая пола и возраста?
– А Сульмона, Сполето, Терни, Флоренция – все эти богатые итальянские города, которые он велел сровнять с землей за то, что жители их держали сторону Мария?
– Эй, вы, молодцы! – крикнула Лутация со своего места, где она укладывала на сковороду заячье мясо, собираясь его жарить. – Никак вы браните диктатора Суллу Счастливого? Предупреждаю вас, чтобы вы держали язык за зубами. Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего из римских граждан!
– Ишь, проклятая кривуля! Тоже суллианка, – заметил старый легионер.
– Слушай, Меций, – крикнул ему могильщик, – прошу отзываться почтительнее о нашей милой Лутации!
– О, клянусь щитом Беллоны, еще не видано, чтобы могильщик учил африканского ветерана.
Дело грозило перейти в новую ссору, если бы в эту минуту с улицы не донесся визг хора женских голосов, имевший претензию называться пением.
– Это Эвения! – заметили некоторые из присутствующих.
– И Луцилия!
– И Диана!
Все глаза обратились к двери, в которую вошли немного погодя, визжа и подплясывая, пять женщин в подоткнутых платьях, с раскрашенными лицами и голыми плечами. Их встретили шумными приветствиями и криками, на которые они со смехом отвечали грязными шутками. Мы не станем описывать сцен, вызванных появлением этих несчастных, заметим только, что Лутация и черная рабыня ее принялись усердно накрывать стол в другой комнате и готовить ужин, который, судя по приготовлениям, обещал быть великолепным.
– Кого ты ждешь сегодня? Кто будет есть твоих жареных кошек под видом зайцев? – спросил Велений.
– Не ждешь ли ты к ужину Марка Красса?
– Или Помпея Великого?
Среди хохота и шуток на пороге появилась колоссальная и мощная фигура мужчины, которого, несмотря на его седые волосы, можно было еще назвать красавцем.
– А! Требоний!
– Привет тебе, Требоний!
– Добро пожаловать, Требоний! – хором воскликнуло много голосов.
Требоний был когда-то ланистом, но закрыл несколько лет назад свою школу гладиаторов и существовал теперь на сбережения от этой выгодной профессии. По привычке и по наклонности и теперь его влекло в среду гладиаторов, и он был постоянным посетителем таверн Эсквилина и Субурры, где во множестве собирались эти несчастные.
В народе ходил слух, что он пользуется своими связями с ними и своей популярностью среди них, употребляя их как орудие во время междоусобиц, в пользу тех из патрициев, которые давали ему деньги на завербование известного числа гладиаторов. Поговаривали, что он всегда располагает целыми полчищами подобных людей, которых он подсылает, когда нужно, занять форум или комиции, если там обсуждается какой-нибудь важный вопрос, чтобы застращать судей, произвести смуту, а если требуют обстоятельства, то и пустить в ход кулаки. Так бывало, например, во время выбора правительственных лиц. Словом, все были уверены, что Требоний извлекает большие выгоды своими связями с гладиаторами.
Как бы то ни было, а он был их другом и покровителем, и в день описанных зрелищ в цирке, встретив Спартака у выхода, обнял его, расцеловал и пригласил в таверну Венеры Либитины. Поэтому он вошел в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов.
На Спартаке была еще та самая пурпурная туника, в которой он сражался в цирке, а на плечи был накинут короткий солдатский плащ, который ссудил ему один центурион, приятель Требония.
Прибывшие были встречены шумными приветствиями, и те из присутствующих, кто был в этот день в цирке, с гордостью указывали небывшим на героя дня, счастливого Спартака.
– Представляю тебе, храбрый Спартак, прекрасную Эвению, красивейшую из женщин, посещающих эту таверну, – сказал старый гладиатор.
– Которая с удовольствием готова поцеловать тебя, – добавила Эвения, стройная, высокая девушка, недурная собой. И, не дожидаясь ответа, она обняла и поцеловала Спартака.
Фракиец улыбнулся, чтобы скрыть отвращение, которое она внушала ему, и сказал, мягко отведя ее руки и отдаляя ее от себя:
– Благодарю тебя, красавица, но… в эту минуту для меня нужнее всего подкрепиться пищей.
– Иди, иди сюда, прекрасный гладиатор, – сказала Лутация, вводя новых гостей во вторую комнату, где был накрыт ужин. – Твоя Лутация, Требоний, приготовила тебе на ужин такого зайца, каких не бывает за столом и у Марка Красса.
– Отведаем, отведаем твоего искусства, плутовка, – ответил Требоний, хлопая ее по спине. – А ты принеси-ка нам пока амфору фалернского. Старое оно у тебя?
– Боги праведные! – вскричала Лутация, оправляя приборы на столе, за который сели посетители. – Старое ли у меня фалернское! Да ему пятнадцать лет!.. Оно разлито при консулах Кае Целии и Луции Энобарбе!
Пока она говорила, негритянка принесла амфору с вином, которую гости внимательно осмотрели, передавая из рук в руки, потом налили вино в большие кубки, наполовину наполненные водой, а затем наполнили маленькие кубки чистым вином.
Оно оказалось хорошим, ужин – также недурным, и комната вскоре наполнилась шумом разговоров и смеха. Один только Спартак, которого все превозносили и угощали, был невесел и ел неохотно. Но это можно было объяснить сильными впечатлениями этого дня или глубоким чувством счастья от полученной свободы. Как бы то ни было, а на лице его лежала тень грусти, которую не могли рассеять ни похвалы, ни дружеские слова, ни веселость окружающих.
– Клянусь Геркулесом, я не понимаю тебя, друг Спартак, – сказал наконец Требоний, который хотел долить его кубок и, к удивлению своему, увидел, что он еще полон. – Что с тобой?.. Ты не пьешь!
– Отчего ты печален? – спросил, в свою очередь, один из гостей.
– Клянусь Юноной, матерью богов, – вскричал другой гладиатор, в котором по акценту можно было узнать самнита, – можно подумать, что ты на похоронах, а не в обществе друзей, и не освобождение свое празднуешь, а оплакиваешь смерть своей матери.
– Моей матери! – повторил Спартак с глубоким вздохом и сделался еще мрачнее.
Тогда бывший ланист Требоний поднялся с места и провозгласил:
– Выпьем за свободу!
– Да здравствует свобода! – закричали бедняки гладиаторы, вскочив с мест и подняв кубки. У всех заблестели глаза жаждой свободы.
– Счастливец ты, Спартак, что получил свободу при жизни, – грустно сказал молодой гладиатор со светлыми, как лен, волосами. – Вот нас так освободит только смерть.
При первом крике «свобода!» лицо Спартака прояснилось: глаза его загорелись, на губах появилась улыбка; он встал и, высоко подняв кубок, прокричал звучным, сильным голосом:
– Да здравствует свобода!
Но при грустных словах молодого гладиатора рука Спартака опустилась; он нехотя поднес кубок к губам и не допил его содержимого. Голова его свесилась на грудь; он сел и замолчал, погрузившись в размышления. В комнате на минуту воцарилась тишина. Глаза всех гладиаторов были устремлены на счастливого товарища с выражением сочувствия и зависти, сожаления и радости.
Молчание было нарушено голосом Спартака, который, как бы забыв, что он не один, устремил глаза в потолок и запел тихим голосом песенку гладиаторов, которая часто пелась в часы отдыха в школе Ациана:
Он родился свободным,
Свободным и мощным,
Но попал в неволю
К жестоким врагам.
Чужеземцы сковали могучие руки,
Заставили драться толпе на потеху
И кровь проливать —
Не за лар домашних,
И жизнь отдать —
Не за милых сердцу.
– Наша песня… – весело пробормотали некоторые из гладиаторов.
Глаза Спартака радостно заблестели. Но, желая скрыть свою радость от Требония, который не знал, чем объяснить ее, Спартак принял равнодушный вид и небрежно спросил своих товарищей по несчастью:
– Из какой вы школы?
– Из школы ланиста Юлия Рабеция.
Спартак взял со стола свой кубок, выпил остатки вина и, обернувшись к двери, равнодушно проговорил, как бы обращаясь к вошедшей в ту минуту рабыне:
– Света!
Гладиаторы быстро переглянулись, и белокурый юноша рассеянно сказал, словно продолжая начатый разговор:
– И свободы… Ты заслужил ее, храбрый Спартак. Теперь сам Спартак бросил выразительный взгляд на белокурого гладиатора, сидевшего напротив него. Но едва тот произнес эти слова, как со стороны двери раздался могучий голос вошедшего нового гостя:
– Да, заслужил свободу, непобедимый Спартак!
Все обернулись и увидали неподвижно стоящую на пороге мужественную фигуру, закутанную в широкий темный плащ. Это был Луций Сервий Катилина.
Особенное ударение, сделанное им на слове «свобода», заставило Спартака и других гладиаторов, за исключением Требония, вопросительно посмотреть на него.
– Катилина! – вскричал Требоний, который сидел спиной к двери и последний увидел вошедшего.
Он встал и пошел к нему навстречу, почтительно кланяясь и приложив, по римскому обычаю, руку к губам в знак приветствия.
– Приветствую тебя, славный Катилина! Какой доброй богине обязаны мы честью видеть тебя среди нас в этот час и в этом месте?
– Я хотел видеть тебя, Требоний, – ответил Катилина и, обратившись к Спартаку, прибавил: – Да отчасти и тебя.
При имени Катилины, известного всему Риму своей жестокостью, силой и храбростью, гладиаторы с изумлением переглянулись, и некоторые из них даже побледнели. Сам неустрашимый Спартак невольно вздрогнул при этом страшном имени и, сдвинув брови, глядел в глаза патрицию.
– Меня?! – повторил он с удивлением.
– Да, именно тебя, – спокойно ответил Катилина, садясь на предложенную ему скамью и знаком приглашая сесть и других. – Я не знал и даже не воображал, что найду тебя здесь, но был уверен, что найду тебя, Требоний, и намеревался узнать от тебя, где я могу встретить храброго Спартака.
Спартак, все более и более удивленный, не сводил с Катилины пытливого взгляда.
– Повторяю, ты вполне достоин дарованной тебе свободы, – продолжал тот. – Но тебе не дали денег, чтобы обеспечить твое существование, пока ты не найдешь себе какого-нибудь занятия. Так как благодаря твоей храбрости я выиграл сегодня у Кнея Долабеллы десять тысяч сестерциев, то я и хотел видеть тебя, чтобы отдать тебе часть моего выигрыша. Она по праву принадлежит тебе. Ведь если я рисковал моими деньгами, то ты в продолжение двух часов ежесекундно рисковал жизнью.
В комнате послышался ропот одобрения и сочувствия. Этот великодушный патриций не только унижается до беседы с презираемыми гладиаторами, но ценит их подвиги и протягивает им руку помощи.
Сам Спартак, хотя и не совсем успокоенный, все же был тронут участием такого знатного лица, тем более что ему давно не случалось встречать со стороны людей такого внимания к себе.
– Благодарю тебя, славный Катилина, за твое великодушное предложение, – ответил он, – но я не могу и не вправе принять его. Я буду учить борьбе, гимнастике, фехтованию в школе моего бывшего ланиста, и это даст мне возможность существовать своим трудом.
Катилина, воспользовавшись минутой, когда внимание Требония было отвлечено, наклонился к самому уху Спартака и чуть слышно прошептал:
– И я томлюсь под гнетом олигархии, и я – раб этого римского общества, и я – гладиатор среди патрициев и хочу свободы… и… знаю все…
Спартак вздрогнул и откинулся назад, вопросительно глядя на Катилину, а тот повторил:
– Знаю все! Я – ваш и останусь с вами.
Потом, встав с места и протягивая Спартаку маленький кошелек с новыми ауреями, он прибавил:
– Возьми же этот кошелек с двумя тысячами сестерциев. Повторяю тебе, что они – твои, как часть добычи, приобретенной с твоей помощью.
Пока все присутствующие громко восхваляли щедрость Катилины, он взял правую руку Спартака и так крепко сжал ее, что тот вздрогнул.
– Веришь ли ты теперь, что я все знаю? – спросил он вполголоса.
Ошеломленный, Спартак не мог понять, каким образом Катилине стали известны некоторые таинственные знаки и слова, но в том, что они известны ему, не оставалось более сомнения. Спартак ответил на его рукопожатие и, кладя кошелек себе за пазуху, проговорил:
– Я так взволнован в настоящую минуту твоим великодушным поступком, благородный Катилина, что не в силах достойно поблагодарить тебя. Но, если ты согласен, я приду к тебе завтра под вечер, чтобы выразить тебе всю мою признательность.
Спартак подчеркнул последнее слово и досказал взглядом то, чего нельзя было сказать словами. Патриций кивнул в знак согласия и ответил:
– Двери моего дома всегда открыты тебе, Спартак. А теперь, – прибавил он, обращаясь к Требонию и другим гладиаторам, – выпьем по кубку фалернского, если в такой норе, как эта, можно найти доброе вино.
– Если моя жалкая хижина удостоилась видеть в своих стенах такого славного патриция, – любезно сказала хозяйка, стоявшая позади Луция, – то как же не найтись в ней амфоре доброго фалернского? Найдется оно, и такое, которое достойно стола самого Юпитера!
Она поклонилась Катилине и ушла за вином.
– Выслушай меня теперь, Требоний, – сказал тот бывшему ланисту.
– Слушаю обоими ушами.
И пока гладиаторы втихомолку любовались богатырским телосложением патриция, изредка обмениваясь вполголоса замечаниями насчет необычайной силы его рук с выдающимися, узловатыми мышцами, Катилина о чем-то тихо беседовал с Требонием.
– Знаю, знаю, – сказал последний. – Это серебреник Эзофор. Его лавка находится на углу Священной и Новой улиц, близ курии Гостилии.
– Он самый. Так ты сходи к нему, как будто от себя, из желания предостеречь его, и дай ему понять, что ему не пройдет даром, если он не откажется от своего намерения требовать от меня через судебную власть немедленной уплаты долга в пятьсот тысяч сестерциев.
– Понимаю, понимаю.
– Скажи ему, что ты, вращаясь среди гладиаторов, слышал, что несколько молодых патрициев, преданных мне за мои благодеяния, набрали – конечно, без моего ведома – толпу гладиаторов, чтобы сыграть с ним злую шутку[5].
– Понимаю, Катилина, и будь уверен, что исполню все как следует.
Тем временем вернулась Лутация с фалернским вином и разлила его по кубкам. Гости тотчас принялись за него и нашли его достаточно хорошим, хотя и не настолько старым, как было бы желательно.
– Как ты находишь вино, славный Катилина? – спросила хозяйка.
– Недурно.
– Оно разлито в консульство Луция Марция Филиппа и Секстия Юлия Цезаря.
– Значит, ему только двенадцать лет! – вскричал Катилина и погрузился в думы, очевидно навеянные этими именами. Вперив глаза в стол и машинально играя вилкой, он долго оставался безмолвным и неподвижным среди воцарившейся в комнате тишины.
В душе Катилины, видимо, происходила какая-то борьба, и ум волновали страшные мысли. Это можно было угадать по молниям, сверкавшим по временам в его глазах, по трепету его рук, по нервному сокращению всех мышц и по налившейся кровью толстой жиле, которая пересекала его лоб.
От природы необычайно искренний, он не мог, даже когда хотел, скрывать бушевавшие в нем страсти: они, как в зеркале, отражались на его резком, суровом, мускулистом лице.
– О чем ты задумался, Катилина, что так омрачился? – спросил Требоний, услышав вздох, похожий на рычание.
– Я думаю, – ответил патриций, не сводя глаз с одной точки и продолжая нервно играть вилкой, – я думаю о том, что в тот самый год, когда в эту амфору было налито вино, трибун Ливии Друз был предательски убит под порталом собственного дома так же, как за несколько лет до того был убит трибун Луций Сатурнин или как еще ранее были убиты Тиверий и Кай Гракхи, эти благороднейшие из людей, прославивших наше отечество. И все они отдали жизнь за одно и то же дело – за дело обездоленных и угнетенных; и все погибли от той же руки – от тиранической руки презренных властолюбцев.
Он помолчал и после минутного размышления воскликнул:
– Неужто решено декретами богов, что угнетенным никогда не будет покоя, что обездоленные вечно будут голодать и человечество вечно будет делиться на волков и овец, на пожирающих и пожираемых?





