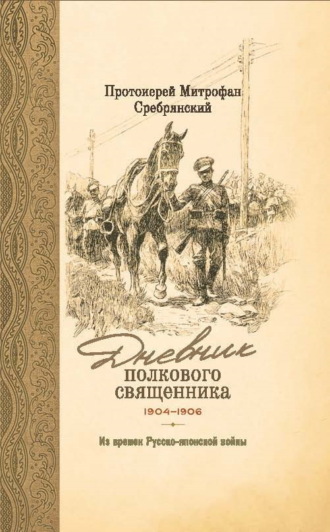
Протоиерей Митрофан Сребрянский
Дневник полкового священника. 1904-1906 гг. Из времен Русско-японской войны
А между тем налево от нас ясно слышна была канонада; очевидно, в горах шло сражение. В эту ночь из Янтая отправилось туда 3000 человек пехоты.
Кончилась служба; все были рады богослужению чрезвычайно. А я так был потрясен всей этой картиной, что едва удерживался на ногах. Долго буду помнить я это служение!
Глава II
Ляоян-Шахе

18 июля
Прошла ночь; кое-как пережили. Обливались потом так же, как и днем. В России хоть ночью отдохнешь, а здесь до 2 часов утра была такая жара, что нитки сухой не осталось на теле. С 2 часов до 5 немного отдохнули: потянул небольшой ветерок, а с 5, 5 часов началась снова жара; мух мириады. Невероятно-огромное количество мух объясняется тем, что около Янтая всегда днюют проходящие войска, оставляющие после себя некоторые прелести, от которых мухам одно раздолье. Вечером я зажег свечу и ужаснулся: вся моя палатка внутри оказалась черной от мух. Выгнать их была первая мысль; но это одно пустое занятие: они непобедимы.
Встал в 6 часов утра, и прямо грустная новость: в 12 верстах от нас убиты рано утром два офицера-пограничника. Кто их убил, японцы или хунхузы, неизвестно.
Началось уже потение: рубашку хоть выжми; но сегодня сноснее: термометр показывает 45 °, а вчера доходило до 52°. Ко всему можно привыкнуть; начинаем и мы привыкать потеть.
Едет генерал и его штаб. Выстроились эскадроны, кроме 6-го. Командир полка подходит ко мне и берет благословение на поход. Взвилась туча пыли; это эскадроны тронулись к Ляояну. Мы остались ожидать 6-й эскадрон, и тогда под его охраной весь обоз пойдет догонять полк. Настроение наше, слава Богу, не угнетенное; стараемся даже шутить и, как дети, мечтаем о том блаженном дне, когда снова сядем в вагон для возвращения в дорогую Россию к милым лицам и местам. Но до этого счастливого дня далеко, ох как далеко! Да будет воля Божия над нами!
19 июля
Ночью пришел 6-й эскадрон. Встали в 5 часов утра и начали выстраивать обоз; вышел огромный поезд, до ста повозок. В 9, 5 часов благословясь выступили: впереди дозорные, затем взвод солдат, обоз и в хвосте остальная часть эскадрона. Сначала я поехал рядом со своей двуколкой, но потом проскакал вперед к сторожевому взводу: меньше пыли. Начинается жара. Надеемся, проехавши 15 верст, отдохнуть в назначенной деревне Лютонтай. Припекает так, что у некоторых уже волдыри вскочили. Мне тоже больно тронуть шею. Буду долго помнить этот день; только в книгах читал я о походах среди зноя, о невыносимой жажде, от которой люди сходят с ума, требуя лишь одного: «воды, воды». Теперь я и все наши испытали это на себе. Жара более 50 °, и мы едем в облаках пыли. До деревни доехали сравнительно хорошо. Приехали на место в час дня. Как манны небесной, ожидали мы фанзы, хоть и вонючей, но все же сколько-нибудь прохладной и чаю. И что же? Эскадроны наши уже поседланы, и командир полка объявил, чтобы мы не распрягались, а чрез 2 часа трогались дальше: нужно было к вечеру непременно быть в Ляояне и ехать дальше еще версты четыре до штаба корпуса к бывшему китайскому монастырю, в зданиях которого разместились наши вместе с лошадьми. Во время боксерской войны 1900 года этот монастырь укрывал хунхузов и в наказание был тогда же упразднен, а богов китайцы унесли.
Едем по линии железной дороги; мне с лошадью прямо беда: страшно пуглива, прыгает; однажды едва не сбросила меня. Проезжаем деревнями; каждый дом – своего рода крепость: окружен высокой глинобитной стеной, а у богатых каменной с затейливыми фигурными воротами, на концах которых головы драконов, а на гребнях маленькие каменные собаки. При въезде в деревню стоят каменные столбы с головами собак и драконов, исписанные какими-то иероглифами.
На улице при нашем проезде масса народу, но одни только мужчины; женщин же, или, как их называют китайцы по-русски, «бабушек», они прячут, и при всем желании с трудом можно увидеть женщину, а заговорить с ней почти никогда невозможно. Женщины, которых удавалось видеть, все отлично причесаны, с разнородными шпильками, довольно хорошо одеты. Жен китайцы прячут во внутренних фанзах. Главная фанза строится обыкновенно среди двора, а затем несколько маленьких в закоулках, так что, когда войско входит на постой в деревню, то ворота во дворах бывают заперты, и на стук только тогда отопрут, когда хорошо спрячут своих «бабушек».
Смотреть тяжело на китайских женщин, когда они идут. Представьте человека, у которого обрублена половина ступни: как он идет? Вот именно так ходят на своих с детства изуродованных ногах несчастные китаянки.
Интересное зрелище представляют уличные мальчишки. Они целым кагалом встречают нас; почти все голые, прыгают, хлопают в ладоши, показывают нам большой палец, кричат и мне «шанго капитан», отдают честь по-солдатски, шаркают, стараются петь на мотив военных песен, даже крестятся; у каждого, даже самого маленького, заплетена коса. Одним словом, премилая компания, и солдаты наши хохочут во все горло.
Китайцы почти все без бород и усов. Оказывается, усы может носить китаец, только прожив известное число лет женатым, а бороду носят только деды, имеющие внуков.
Передают, что родители, обремененные большими семьями, не прочь бывают освободиться от лишнего рта и продают своего ребенка. У одного коменданта станции в Манчжурии мы встретили двух китайчат, прислуживающих за столом; говорит, что купил их. По дороге мне говорили, что офицеры Нежинского полка купили двух китайчат по 7 рублей за каждого, между тем как осла дешевле 25 рублей китайцы не продадут. Мне даже как-то не верится: слишком уж дики и купля и продажа.
Деревня Лютонтай большая, и нам пришлось долго ехать по ней, пока мы добрались до кумирни, во дворе которой помещался командир полка. Эту кумирню я осмотрел.
Как сама кумирня, так и высокая каменная ограда ее очень хорошей постройки. Вообще китайские постройки только на картинах легки и малопривлекательны; в натуре же они очень тяжелы и оригинально красивы, хотя и однообразны, как все китайское. В кумирне собственно три храма и в каждом по 9 богов: 3 против входа и по 3 по бокам. Идолы сделаны очень хорошо и пестро раскрашены. Выражение лиц у одних спокойное, у других улыбающееся, а у некоторых злобное; приклеены бороды и усы; одеты китайские боги в национальные одежды, мужские и женские, а также в старинные военные. Перед богами стоит жаровня, на которой прихожане 1 и 13 числа каждого месяца возжигают курительные свечи, а на новый год у храмов устраиваются процессии, церемонии, и сжигается масса курительных свечей. Храмы содержатся грязно, и слышится запах амбара и скверного бобового масла. Во дворе стоит невысокая колокольня; на ней один только колокол и притом с зубчатыми краями. Перед входом в храм огромные каменные собаки или львы – не разберешь; на крышах драконы и маленькие собаки чудной работы; карнизы под крышами, колонны – все выкрашено в разные тоны вроде майолика или эмали; дворы вымощены каменными плитами. Жаль только, что все это грязно.
Жара стоит страшная; по словам доктора, на солнце 52°. Лошадям мочат головы холодной водой. Мы лежим под деревом. Жажда столь мучительна, что офицеры крепились-крепились и не выдержали: крикнули вестового, и ведро чудной чистой холодной воды очутилось между нами. Все буквально накинулись и выпили почти все ведро. Не стерпел и я: глотнул раза четыре, хотя добрые милые солдаты незадолго перед тем налили мне в мою фляжку из своих фляг кипяченой воды, делясь таким образом со мной самым, можно сказать, дорогим, что было у них в это время.
В 4 часа поехали дальше и в Ляоян прибыли в 19.30 вечера. Остановились на берегу прекрасной реки Тайдзыхэ. Подполк. Букреев поехал в штаб корпуса узнать, где стать нам. Я же магнитом потянулся к реке и с вахмистром 6-го эскадрона отлично выкупался. Река кишела солдатами и лошадьми артиллерии. Движутся непрерывно войска всех родов оружия, обозы, вьюки, много мулов и ослов.
Стемнело. Звезды ярко блестят. С трудом переехали мы понтонный мост и долго блуждали по городу, не находя в темноте своего места; все движется кругом, все кричит и, к глубокому сожалению, крепко ругается. Только в час ночи мы приехали на бивак. Ехали в такой пыли, что я едва дышал через нос.
Нас поместили пока при штабе 17-го корпуса, а полк разделили по частям. Меня будут требовать по мере надобности. Первым моим делом было вымыться: во рту все высохло и покрылось пылью, так что вздохнуть глубоко нельзя было. О, счастье! Чистая, холодная вода, и я лью-лью ее на себя без конца, этот жизненный элексир. Спасибо Чепурину[21]: он напоил меня чаем и накормил горячей пищей, а то за весь день я съел только кусочек хлеба и одно яйцо. Слава Богу, можно лечь.
На каменном полу паперти храма мы с Алалыкиным[22] поставили койки, выпили красного вина, присланного нашим заботливым шефом великой княгиней, и, вспоминая пережитые лишения и понесенные труды, хотели уже расправить усталые члены под звездным темным небом, как вдруг голос проснувшегося соседа предупреждает нас: «Господа! Здесь много скорпионов: будьте осторожны; мы уже нескольких поймали; постелите на кровати бурки: они шерсти боятся, и тогда спите покойно». Господи! только бы уснуть, отдохнуть, а тут скорпионы… Постлали бурки и только в 3-м часу наконец улеглись. А в 5 часов, по всей вероятности, придется уже встать: жара и мухи не дадут спать.
20 июля
Прошел вчерашний трудный день. И какая разница сравнительно с прошлым годом! Тогда в этот день я был в Сарове, счастливый… А теперь? теперь исполняются слова преп. Серафима, сказанные мне во сне о перемене моей жизни: «Тогда я тебе укажу». И вот в день своего прославления преподобный указал мне, что я должен перетерпеть труды и лишения военно-походной жизни. Раньше были, как говорится, «цветики»; но день 19 июля – это первый день настоящего похода, настоящего страдания. В то же время вижу и верю, что по молитвам св. Серафима я буду жив и здоров.
Встал около 6 часов утра и скорее перебрался в пустую, но прегрязную келью китайских монахов-бонз. Частью со мной, частью в соседней комнате поселились еще Букреев, Алалыкин, делопроизводитель, Бузинов и Шауман[23]. Боимся скорпионов, но приняли меры и теперь покойны; шутим, обильно потеем и уже мечтаем об обеде. Поставили пустой ящик – это наш обеденный стол.
Вот и обед готов; подсели к самодельному столу и прекрасно пообедали. По случаю праздника был куриный суп из консервов и битки; все показалось очень вкусным. Чай, конечно, не сходит со стола.
Что-то заволновался наш штаб; все высыпали… Что это? Убитого генерала Келлера везут. Простой черный гроб; запыленная печальная пехота уныло идет за гробом. Умер генерал истинным героем: умно и храбро командовал боем, ободрял солдат, офицеров; вдруг разорвалось ядро, и один осколок попал в Келлера. Он опустился на руки подскакавшего офицера и со словами: «Ох, тошно мне; братцы, не отступайте» через 20 минут скончался.
Японцы сильно наступают, приближаются к Ляояну; теперь бои идут почти непрерывно; то и дело тянутся обозы-арбы с ранеными.
От жары и духоты напала какая-то апатия; ходим, как сонные. Да и на самом деле мы мало спим: не больше 4 часов в сутки.
Разные слухи носятся про японцев и русских, самые противоречивые; не знаю, чему верить.
В 2 ч. 10 мин. дня начался бой на позициях около Ляояна; ясно слышалась канонада, но скоро прекратилась.
Вечером пошли осматривать город. Ляоян очень большой, окружен огромными толстыми каменными стенами с пятью воротами. В нем много кумирен, несколько торговых улиц, сплошь запятых разнообразными магазинами, банками, театрами, цирюльнями. Очень оригинальны эти торговые улицы: узкие, немощеные, но обильно политые водой, которую китайцы плескают прямо из чашек. Как флаги, болтаются вывески с иероглифами. На перекрестках стоят высокие столбы в виде точеного каменного обелиска с надписями или наподобие дерева; только вместо ветвей – вызолоченные драконы, змеи.
В один магазин-банк нас пригласили любезные хозяева, провели во внутренний двор, весь вымощенный плитами и уставленный растениями; посреди двора аквариум с рыбками. Внутри двора еще три дома: два жилые, а в третьем помещается домашняя моленная. Сын хозяина был так добр и любезен, что пригласил нас и туда, достал богов, курительные свечи, все показал. Мы ему сказали «спасибо», что китайцы хорошо понимают.
Идем по улице. Масса народу. Важно шествуют городские щеголи, тщательно выбритые; косы блестят, и в них вплетены шелковые косники; на них широкие синие шаровары и что-то вроде длинной синей рубахи; на ногах белые чулки и черные туфли; в руках вееры; идут, небрежно болтая; им уступают дорогу.
Едут двуколки, запряженные мулами, крытые, со стеклянными окнами, с занавесками; в них восседают важные «купезы». Лишь только останавливается двуколка, возница соскакивает с нее, подставляет скамеечку и под руку высаживает купезу. Его приветствуют прохожие, приседая, и он некоторым из них, более почетным, отвечает тем же.
На улицах довольно много полицейских, которые стоят в синих коротких куртках с белым кружком на груди, испещренным письменами об обязанностях полицейского; в руках палка, на которую насажено копье и красный флаг.
Шум, крик: воняет чем-то прокислым, так что прямо тошнит. Купезы сидят за прилавками, обмахиваясь веерами и услаждаясь пением любимого китайского соловья – простого громадного зеленого кузнеца-сверчка, который сидит в клетке над головой купезы и оглушительно чирикает.
На улице сидят доктора на корточках и ожидают пациентов; ими тут же производится осмотр больных и лечение.
Гремит китайская музыка – это несут умершего. Странное зрелище: огромный гроб-колода, впереди него целая процессия – несут огромных бумажных драконов, мулов, змеев, фонари, и дикая музыка завывает под гром барабана.
Возвращаясь обратно, мы заходили в полицейскую часть. Она представляет собою очень большой двор, обнесенный высокою каменной стеной. Внутри двора множество грязных фанз; это тюрьмы. Сегодня в них хунхузы. На дворе лежат штук двадцать собак, обязанность которых не только сторожить преступников, но и подлизывать их кровь после казни.
Подходит бонза, подает мне руку и показывает мимикой, что и он такой же служитель Неба, как и я.
Вернулись в кумирню. На площадке храма увидели толпу наших в возбужденном состоянии; оказалось, поймали скорпиона… После в этот вечер в кумирне убили еще трех скорпионов. Прежде, чем лечь спать, я опять накрыл кровать буркой.
21 июля
Полк наш перевели на самые передовые позиции в 9 верстах от японцев и разделили на 4 части.
Жара прежняя и все тоже. Скука смертельная. Если не будет дела в полку, то буду проситься в госпиталь приобщать больных.
Сегодня ночью патронная двуколка опрокинулась и сильно раздавила нашего солдата. Иду в обоз приобщить его; лежит он на земле под двуколкой; я стал на колени рядом, св. Дары поставил на чемодан и таким образом поисповедал и причастил его. Как он был рад! До чего доводит война! Думал ли я когда-нибудь приобщать больных прямо на земле, почти на навозе, среди лошадей? Заодно причастил заболевшего кузнеца Зотова. Обоих больных отправили в лазарет.
Японцы сильно наседают; ходят упорные слухи о дальнейшем отступлении. Что ж? Унывать не будем, а лучше верить, что это мы их заманиваем все дальше, чтобы отрезать врагу отступление.
22 и 23 июля
Слышу, слабо доносится как будто звон церковный. Говорят: «Это звонят в вокзальной церкви». Возрадовался я и поспешил в церковь. Сегодня высокоторжественный день. Идут на парад войска, великий князь Борис Владимирович, генералы, офицеры, иностранные военные агенты. Командующего армией генерала Куропаткина нет: он отбыл в Хайчен, который наши оставляют, чтобы сконцентрироваться вокруг Ляояна, где ожидается на днях великая битва, от которой многое-многое будет зависеть. Господи, помоги нам! Боже, пошли нам скорый и прочный мир!.. Началось богослужение; я стал сзади с солдатами; невыразимо отрадно было помолиться.
Живем в грязных неудобных помещениях. Икон повесить никак невозможно по причине невероятного количества мух.
От мух и духоты мало спим. При таких условиях жизни, право, не трудно и одуреть.
Идет чиновник контроля бледный, взволнованный и говорит, что он только что сделался случайно свидетелем смертной казни: прямо на улице около полицейского дома отрубили головы двум молодым китаянкам за прелюбодеяние; головы их в грязном мешке брошены на улице, чтобы проходящие поучались супружеской верности. Вот в какой стране мы сейчас находимся! И когда только Господь приведет нам выбраться отсюда?
Весь день 23-го никуда не выходил. Пришли слухи, будто бы наш 3-й эскадрон взял в плен 27 хунхузов. Полк наш ушел в горы.
25 июля
23 и 24 июля прошли не только без происшествий, но даже томительно скучно. Побывав раз в городе, другой раз не тянет.
Вчера ко всенощной, а сегодня к св. литургии мы с корпусным ветеринаром ходили в церковь главной квартиры. Стоял я в задней части церкви, и пришлось невольно сделать наблюдение. Как приподнято у всех религиозное чувство! Вот в углу вместе с солдатами стоят два генерала и усердно молятся; один почти половину службы простоял на коленях. Рядом солдат, не обращая внимания на генерала, усердно кладет земные поклоны. Церковь полна. Офицеры и солдаты всех родов оружия запыленные и загорелые; на всех лицах печать какой-то серьезности, немножко грусти; каждый как-будто к чему-то великому готовится. И это одинаково у всех, высших и низших. Женщин нет; только 2–3 сестры милосердия, тоже запыленные, загорелые, обносившиеся. Во время запричастного пошел офицер с тарелкой; и посыпалось серебро, бумажки – целый ворох! Каждый клал щедрой рукой, как бы говоря: «Лучше пусть Божьему храму достанется, чем, если убьют, басурманину». Человек сто солдат было причастников. Церковник, выйдя на амвон, внятным голосом и вдохновенно прочитал молитвы ко св. причащению. В душе что-то клокотало, дыхание участилось, слезы навертывались на глаза, и я едва не разрыдался. Да, трудно забыть картину: «Молитва и причащение воинов пред смертным боем».
Ночью лил страшный дождь, и площади Ляояна превратились в непроходимые зловонные болота. Идем из храма гуськом, пробираясь один за другим, и вдруг зрелище: посреди площади-болота застрял обоз Красного Креста, и на одной из двуколок с 2 больными сидит на козлах и правит лошадью сестра милосердия. А вот еще: едет целый поезд рикш, на которых сидят офицеры. Угнетающее впечатление производят на меня эти люди-лошади: бежит рикша, тяжело дышит, льет пот, выражение лица страдальческое, а в экипаже сидит подобный ему человек. Я не решился сесть ни разу. Особенно тяжелое впечатление оставил во мне один офицер громадного роста; развалившись в экипаже, он хлыстом тыкал усталого рикшу в спину, приговаривая: «Ну, лошадь, запузыривай!» И бедняга, хотевший немного пройтись, чтобы вздохнуть, снова бежит. Зато врачи утверждают, что добрая половина рикш страдает сердцем. Теперь рикши много зарабатывают.
Делясь впечатлениями, мы кое-как добрались до своей «кумирни сорока богов», и остальное время дня прошло по-прежнему скучно, однообразно. Под вечер небо заволокло тучами, разразилась гроза, и хляби небесные, разверзшись, пролили на нас море воды.
26, 27 и 28 прошли скверно: мы все болели лихорадкой; теперь с погодой оправились.
29 июля
Вот уже 10 дней прожили мы в ляоянской кумирне сорока богов в приятном обществе чиновников контроля и казначейства 17-го корпуса и ветеринара Пемова. Ежедневно друг у друга пили чай, беседовали и вместе тосковали по родине и близким, каждый раз прибавляя: «Хоть миллион дай, а жить и служить в этой стране ни за что не остался бы».
Зовут обедать. Кстати об обедах. Это время мы прекрасно питались: стол от собрания сервировали на открытом воздухе, и повар отлично готовил пищу. Если бы не духота, вонь и сырость, да если бы не вечный страх перед скорпионами, то можно бы было за это время хорошо отдохнуть.
Сели обедать. Подают телеграмму от 4-го эскадрона: «При рекогносцировке реки Тайцзыхе утонул корнет Гончаров». Как громом, поразила нас эта весть. Первая жертва нашего полка пошла ко Господу; кто-то будет второй, третьей?! Сохрани, Боже! Тела Гончарова не нашли; только поймали фуражку. Завтра пойду в эскадроны, отслужу панихиду и молебен, а то давно уже не молились.
Ходил к главному полевому священнику; он дал мне советы и между прочим сообщил грустную новость: во время сражения убит священник Тамбовского полка о. Любомудров.
30 июля
Кончилось наше ляоянское сиденье; получен приказ передвинуться в деревню Цзюцзаюаньцзы.
Мы с Михаилом оседлали коней и в сопровождении конвоя в два часа дня выехали в деревню Шичецзы, где стоят 3-й и 4-й эскадроны, чтобы отслужить там молебен, а также и панихиду по корнету Гончарову, а оттуда уже ехать на соединение с обозом.
Проехали бесконечный Ляоян, выехали за стену и начали переправу чрез несчастную реку Тайцзыхе по понтонному мосту. Слезли с коней, ведем в поводу. Мост очень длинный, узкий, и каждую минуту ожидаешь, что вот-вот его разорвет: так неимоверно быстро от дождей мчится вода[24]. Вчера на броде перевернуло 4 пехотных двуколки, и 2 солдата утонули. Слава Богу, мы перешли, сели на коней и поехали дальше.
Не более как в полуверсте от моста видим опять реку, не широкую, но очень бурную; образовалась тоже от дождей. Послал вперед унтер-офицера; оказалось, неглубоко, немного выше колен. Гуськом один за другим переехали. Странное чувство испытывал я во время этой переправы: под ногами несутся волны, и, как только взгляну вниз, так сейчас же голова начинает кружиться, и появляется позыв к тошноте. Высокие сапоги сослужили мне здесь хорошую службу.
Едем далее среди полей чумизы, гаоляна, бобов. Гаолян – удивительное растение: выше всадника на аршин. Я срезал стебель; оказалось 5 аршин и 2 вершка. Гаолян – излюбленное местопребывание хунхузов.
Навстречу нам едут китайские арбы, нагруженные женщинами. Это китайцы, предвидя сражения и разорение, перевозят своих жен и детей на север по направлению к Мукдену. При встрече с нами редкая китаянка посмотрит на нас, а большинство или закроется веером, или отвернется. Жаль мне их: ни в чем неповинные существа должны бросить свои гнезда, свои так тщательно возделанные и любимые поля и бежать с несколькими мешками гаолянной муки и бобов, чтобы вернуться потом к пустынному пепелищу.
Вот раздается визг и свист кнута: арба застряла, животные выбились из сил, а ехать надо, – сзади русские обозы, дай дорогу. Да и надо дать: ведь обозы везут хлеб и мясо на позиции солдатам, которые, может быть, под дождем день-два ничего не ели; минута дорога. Вот лежит на дороге осел, издыхает. Бедное животное! Обычно осел несет 3– 4 пуда, а теперь на него взвалили восемь пудов, да грязь до колен: не выдержал, пал.
Едем по деревне. Кумирня была, вероятно, хорошая, а теперь – одно разорение: боги разбиты в куски, которые валяются на полу, как сор; двери ободраны, поломаны; колокол разбит… Чье это дело? Одни говорят, что это – дело рук казаков; другие валят вину на хунхузов; а третьи рассуждают так: «Ведь здесь война; это обычно; да к тому же позиции близко; может быть, и японцы побывали». Может быть, это и обычно на войне, но у меня сердце сжимается от этой обычности, если только так можно выразиться. Значит, и Успенский собор Наполеон имел основание обратить в конюшню? Ведь тогда тоже была война, и такое превращение было обычно!
В 16.30 приехали благополучно в деревню Шичецзы. Вошел я в фанзу, квартиру офицеров Бодиско и Легейды, с которыми жил и Гончаров; собрались другие офицеры. И что же? Многие плачут, вспоминая погибшего товарища. Давали сто рублей китайцам, чтобы отыскали тело нашего первомученика. Но тела не нашли, подполковник Чайковский привез только всплывшую его фуражку.
Солдаты вымели двор фанзы, выгнали противных китайских черных свиней, набросали ветвей, травы; собрались 3-й и 4-й эскадроны при полной боевой амуниции; унтер-офицер с иконой встал впереди…
Ох, картина: в далекой Манчжурии, вместо храма – на дворе китайской фанзы собрались христианские воины помянуть молитвой и вечной памятью погибшего при выполнении своего долга и присяги товарища.
И грустно было нам, и вместе с тем напало на нас что-то вроде воодушевления; каждый взором говорил: «Что ж? И я исполню свой долг, когда придет час мой».
Я облачился в ризы великой княгини, взял в руки ее же крест и, обратившись к солдатам, сказал в поучение несколько слов, приглашая их после усердной молитвы за усопшего воодушевиться его примером и без страха идти на поле брани, памятуя о долге и присяге, как их исполнил корнет Гончаров. «А потому нам, живым, – сказал я в заключение: необходимо, помянув умершего, попросить себе у Господа благодатной помощи; а для этого после панихиды отслужим молебен».
«Благословен Бог наш…», – возгласил я.
«Аминь», – дружно подхватили солдатики.
И полилось наше чудное священное пение панихиды на китайском дворе. Быть может, маловато было гармонии в пении; но, где ее не хватало, там ее восполняли необычайная обстановка священнодействия и общее наше воодушевление.
Смотрю я во время молебна на небо, и хочется мне представить, что это мы поем там, на родине… Да, Господь везде; везде Его возможно славить. Вот и здесь мы молились и горячо молились; китайцы даже притихли, с удивлением наблюдая из своих фанз за нашим богослужением.
Окончили молебствие, вошли в фанзу и за чашкой чая еще раз вспомнили подробности гибели Гончарова.
Унтер-офицер из его разъезда так рассказывает: – Подъехали мы к реке Тайцзыхе. Ее перейти надо. Вижу: вода бушует. Поехал, попытал – никак невозможно. Докладываю его благородию, что мол никак невозможно. А они мне: «Коли офицер приказывает, так, значит, можно». И с этими словами они первые въехали в реку. Не успели мы и глазом моргнуть, как вода перевернула его лошадь 3 раза. Побарахталась она, выплыла; а барин наш даже и не вынырнул ни разу. Бросились искать мы да с той стороны 150 казаков. Не нашли. Видно, тело водой унесло.
Корнет Гаевский передал, что пред отправлением в разъезд Гончаров говорил: «Мне кажется, я сегодня увижу папу и маму». Предчувствие сбылось. Фуражку Гончарова и дневник я взял себе, чтобы переслать их его сестрам.
Оседлали коней. Мне дали десять человек конвоя: надо проехать 8 верст среди 2 стен гаоляна. Едем, разговариваем. Один солдат вдруг задает вопрос: – Батюшка! А правда ли, что и теперь бывает – горы растут? Вот у нас в горах спор вышел: одни говорят: «растут», а унт. – офицер Власов, что Библию прочитал, забожился, что от Рождества Христова ни одной горы не выросло.
Пришлось объяснить устройство земли и образование гор.
Встретили китайца-христианина с большим медным крестом на груди. Указывая на него, он твердил: «Католик, Езус Христус, Мария», а увидев у меня на груди крест, обрадовался и быстро зоговорил: «патер, патер». Он показал нам дорогу.
Встречается много китайцев во всем белом: значит, в глубоком трауре. О, эти ужасы войны! Помоги, Боже, терпеливо перенести их!
Приехали в свою новую стоянку уже вечером, когда было темно. Подошел обоз, и мы расположились прямо на бобовом поле. Едва дождался я палатки и кровати; свалился, как убитый.
Слава Богу, в этот день и я был полезным членом армии: я служил и молился с солдатиками, видел, как им было приятно помолиться и как они ободрились. Если буду здоров, постараюсь объезжать эскадроны.
31 июля, 1, 2, 3, 4 и 5 августа
Утром я едва поднялся с кровати: слабость, боль в костях, тошнота. Очевидно, пришла и моя очередь поболеть манчжурской лихорадкой; все ведь наши уже переболели, один я отстал.
Решили перейти с этого неудобного бивака. Николай Владим.[25] нашел на берегу озерца под деревьями хорошее местечко, куда к 11 часам утра и переехали. Разбили палатки в тени деревьев. Почти рядом линия железной дороги, бегут поезда в… Россию, и мы грешные, как дети, мечтаем и представляем себе, будто мы сидим в вагоне у окошечка и катим на милую родину; с каждым поворотом колеса мы ближе к вам. Но прошел поезд; оглянулись… – палатки, кони, фуры, китайцы, грязь… Вздох и шопотом молитва… Да будет воля Божия над нами! Господь все устроит.
Сегодня закончился 33-й год моего земного бытия, и настал 34-й. Благослови, Господи!
Часов до 4-х была хорошая погода; я тем не менее сильно разболелся и лежал в палатке. Предполагали служить всенощную, не смог.
Часов с 5 пошел сильный дождь. Сразу все превратилось в липкую грязь; льет, не переставая. Под дождь и улеглись. Палатка наша долго терпела, потом стала немного протекать: кругом закапало, стало сыро. В палатку залезли спасаться масса мух, козявок, пауков, двухвосток. Я лежал в сапогах и одежде, укрывшись еще одеялом и непромокаемым плащом, и всю ночь промучился от страшной головной боли. День 1 августа был для меня самый трудный: была рвота, температура доходила до 39°. Спасибо великой княгине: ее лекарство «от малярии» спасло меня. Весь день ни одной крошки не ел, пил по глотку холодный чай. Ксенофонт и Михаил не отходили от меня, искренно сокрушаясь. Благодарение Господу, болезнь моя оказалась обыкновенной здешней лихорадкой, и 2 августа я стал оправляться, а 4-го был уже совершенно здоров.
Здесь страшно трудно достать что-либо из местного: все занято войсками, так что нам и фанз не хватило. И вот Ксенофонт вдруг куда-то исчез; оказывается, он, забыв совершенно о разных хунхузах, обошел окрестные деревни и достал-таки двух маленьких цыплят, о чем, явившись, он с торжеством и объявил. В свою очередь и Михаил тоже отличился: он также вдруг пропал, и от Ксенофонта я узнал по секрету, что Михаил, зная, как я люблю лимоны, сел в поезд и уехал за ними за 50 верст в… Мукден (в Ляояне их нет). Вечером 2 августа Михаил действительно привез 10 свежих лимонов и несколько мягких булок. Да, вот любовь! Спасибо им, этим истинно добрым душам; участие их до глубины души трогало меня.
С 31 июля и до 5 августа дождь лил непрерывно. Все у нас промокло, отсырело, заплесневело: палатки, погребцы, белье, сапоги, кровати – все зеленое. У меня осталось немного сухарей; так они сделались снова хлебом: как будто и не сохли никогда. Перья в погребце заржавели. Со страхом и трепетом открыл я дароносицу… И что же? Св. Дары, к моему глубокому удивлению и радости, не зацвели. Видно, Господь хранит. Озера и реки разлились и слились с дорогами, превратившимися в реки. Вблизи нас шла хорошая сухая дорога (здесь все дороги в углублении); теперь она представляет собою речку, и наши солдаты около своей телеги поймали рыбу-красноперку. Я сам это видел. Делопроизводитель и адъютант живут в одной палатке. Пошли они к писарям. В это время вдруг прорвалась вода и затопила их палатку. Когда они пришли, то насладились очень интересным зрелищем: их погребцы, чемоданы, подушки, туфли плавали по воде. Мы спаслись благодаря только тому, что наша палатка стояла повыше, на холмике. Перед нашим биваком перевернулась одна фура: лошадь упала и чуть и захлебываясь.


