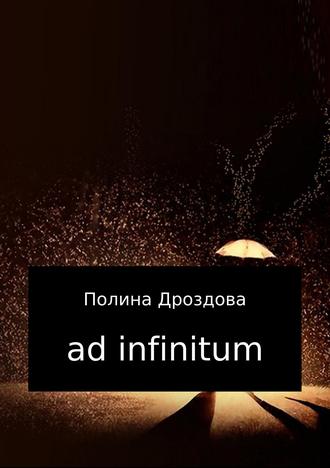
Полина Викторовна Дроздова
Ad infinitum
– Но было весело? – вздернул бровь Бэк.
– Достаточно, чтобы не чувствовать, что в тебе убили твоё «я», – подобрав описание, Чанель мигнул: «ты застопорился».
– Я чувствую, что могу, – уже без голых фактов сообщает парень, – могу кричать вместо говора, бегать вместо ходьбы, улыбаться вместо серьезности, могу пойти и сделать. И ищу то, что сделать, как всю-жизнь-дворовая собака с разорванной цепью.
Чанель глубоко вздохнул, что означало «я понимаю, о чем ты».
Их разговор рассеялся сам собой, когда они оба нырнули в себя для полноценного перехода с одной полосы на другую. Оказывается, подобно тому, как из безоблачного, легкого периода сложно адаптироваться в засосавшем торнадо проблем, так и спустя долгое время черноты под ногами непросто и страшно шагнуть в белизну. И еще – вдруг обман? Вдруг снег припорошил гниль?
«Сегодня это кончится» – говорил себе Бэкхен внутренним пророком, каждый день просыпаясь. Он в напряге ожидал того плохого, что с ним было неразлучно.
«Где моя паника? Она же так меня любила! Мы были неразлучны!»
Заглядывал едва ли не за углы, едва ли не отпрыгивал от открытых дверей.
«Сегодня это кончится» – каждый раз, каждый раз ошибаясь.
«Это кончится скоро, совсем скоро».
«Это кончится сейчас, в эту секунду!»
Лихорадочно ища что-то из прежнего состояния, Бэкхен прибегал к Чанелю и натыкался на праздник. Ощущение было, словно… ожидаешь увидеть темный подвальчик с одной лампой и небрежным гитаристом на табуретке, а перед тобой разворачивается цветастый банкет.
Перед Бэкхеном сотни абсурдов, вот некоторые:
Чанель громко смеялся.
Чанель часто разговаривал по телефону.
Чанель перестал цитировать фильмы больные.
Чанель стал цитировать фильмы обычные.
В Чанеле не кричало всё обиженное на жестокость искусство.
Чанель не казался чем-то возвышенно упавшим.
Два месяца весны прошли с посюсторонним солнцем, от которого тепло и свет исходили с каким-то неестественным преломлением. Чанель даже познакомился с семьей Бэкхена, после чего тот долго раздражался, крутясь по своей комнате злой юлой.
– Я не в той руке держал вилку? – попытался угадать причину Чанель, наблюдавший за ним с кровати.
– Это всё так… натянуто, щепетильно! – кисло отвечал Бэкхен, строя гримасы, – официально и до того гладко, что хочется смять.
– Но это похоже на что-то человеческое, – слабо возразил брюнет, переводя взгляд в окно. Его профиль от чего-то уже не выбивал из Бэкхена весь дух, и дело не в постоянстве. Сколько бы им не приходилось просыпаться у друг друга на спинах, Чанель – не то, к чему привыкаешь. Но сейчас…
`Я не мальчик… сними мой гиматий:
Посмотри на свою Автоною…
Я хочу поцелуев, объятий!`
Вычитав из словаря определений, Бэкхен отправил Чанелю стих в предвкушении какого-то в том же духе ответа, но
«Подожди конца пары, позвоню через 20 мин».
Не как шарик спустили. Как лопнули и притоптали.
С тоской Бэкхен вспоминал дико холодную ночь в пабе, где они напивались дешевым элем и болтали:
– Давай участвовать в монстрациях, я напишу плакат «мне реальность мерещится», – говорил Чанель, видящий уже только на один глаз.
– На моём будет «вижу достоверные миражи», – отвечал Бэкхен, пропуская сквозь тело дрожь от мороза и чувства, что назвал бы «мир катится, катится, катится, а я с ним, но не один».
Где эта дрожь?
Где она, когда Чанель улыбается на качели, которую мечтал раскрутить, качается, зовет к себе жестом и впивается в губы слишком сильно, точно голодный?
Начав что-то считывать с лица парня, Чанель как-то делает попытку вернуть реки в берега:
– Под какой из истин Шекспира проходит сегодня твой день?
У старшего под ложечкой сосет, в крови избыток глюкозы от сладкой ваты, которую не ел с пяти лет, в голове потому слегка беззаботно, и он говорит:
– Ни под какой. Не знаю. Не его день.
Но Чанель вспыхивает и, как обычно, ловит его подбородок ладонью, притягивая.
– Под какой. Из истин. Ты всегда говорил. Ты помнишь его наизусть. Скажи строки.
– Эй, прекрати эту ерунду, – внезапно подумав, как это нелепо выглядит, отдергивается Бэкхен. – Представь, как мы со стороны смотримся.
Плохой шаг. Неосмотрительный ответ.
– Раньше тебя это не волновало, – тяжелым тоном произнес Чанель, подступая вместо того, чтобы отступить, как все обиженные. – Я хочу строфы от тебя.
– Ты сдурел? – брякнул Бэкхен, только через секунду осознавая сказанное. Глаза Чана расширились, и брать слова назад было поздно – и бесполезно.
– А с каких пор тебя это возмущает? – и уже не тяжело, а больно.
– Ты знаешь, я не это имел…
– Всё в порядке, Бён Бэкхен, – никогда до этого так не обращавшийся Чанель ухмыляется, – мы же стали людьми из этой цивилизации. Теперь всё реальное – наше, а наше перестало существовать.
Не было даже снега, чтобы оставлять пальцами разводы на горячих щеках. Не было звезд, чтобы вместе сбиваться со счета, а потом закрывать обзор собственным лицом.
Объявились другие измерения. Усердная учеба, заинтересованные в них внезапно однокурсники, семья с налаженными отношениями, мероприятия, на которые не было сказано первосекундное «нет». Они даже сумели выспаться в одной постели. Но так, что наутро не знали, куда деть эти незатекшие руки, ноги, что делать с простынёй, почему одежда сложена на стулья, а не растеряна.
– Давай, Бэкхен, это жизнь! – воскликнул тост один из приятелей института, когда Бэкхен собрался с группой в одном из кафе в честь защищенных проектов, – за тебя!
Тот улыбался, периодически поправляя новую черную рубашку, очень красивую, но очень неудобную. Похвалили её за день человек семь, трое из них сказали, что Бэкхен выглядит «как-то иначе и лучше».
Раздавался громкий смех и разговоры не о чем, хотя Бэкхен искренне пытался вникнуть в обсуждение онлайн-игр, посмеивался над нижепоясными приколами и не отказывался от пива. Всё в его природе вопило «заткни им глотки строками из Personal Jesus, покажи рукой, как рисовать спирали, примени трюизмы в предлогах уйти, через «выпрямление имени» докажи, что ты и н о й».
На телефон парню пришло сообщение от Чанеля с фотографией горящей на окне голубой свечи, которому хотелось ответить чем-то, побуждающим к спасению: «Я неадекватно скучаю по боли, господи, помоги», но он этого не делает.
Делает то, что сделает любой в нормальном состоянии: пишет, что свеча красивая, а он на встрече и позвонит позже. Это внутри пробуждает ненависть, сильную, как нездоровое опьянение.
«Ненавижу пиво».
«Ненавижу чувство комфорта».
«Ненавижу беззаботный смех».
Но Бэкхен пьет, расслабляется и смеется.
Потом он совсем не помнит, как в ночи на кровати пишет Чанелю кривым пальцами покошенные мысли «я дома я сплю». А потом, следом, всё же «я хочу прежде».
Что это прежде?..
– Мне сказали, я сольно – убого, а вместе с ними буду самое то, – рассказывая о приглашении вступить в начинающую группу, хмыкает Чанель. Он сидит на плетеной скамейке в парке и гитарой на коленях, а Бэкхен стоит перед ним, куря. До сигарет тот дорвался спонтанно, и «один раз – не в счет». Хорошая новость Чанеля больше настораживала, чем радовала.
– Ты согласился? – спросил Бэкхен.
– Не мог нет, у них последняя аппаратура и несколько договоров на выступления, – ответил Чанель, пожимая плечами и поглаживая колки. – Это будет очень прибыльно.
– Прибыльно?! – старшего передернуло так, что чуть сигарета не выпрыгнула. – Когда тебе стали важны деньги?! Ты мог жить на квадратном метре, грызя кафель и быть довольным, а сейчас вдруг думаешь о деньгах?
– Я не…
– Что насчет музыки? – скрестив руки на груди (к черту, курение убивает), спросил Бэкхен, – ты слушал их песни, подходят ли они тебе, твоему творчеству?
Брюнет отвел взгляд, показывая, что не лучшая эта тема для обсуждения. Но Бэкхен не тот, кто остается без ответа.
– Раньше ты бы в первую очередь подумал об этом, – надавил Бэкхен, нагинаясь ниже, чтобы достучаться, впереть слова в лицо. Чанель реагирует той же подачей эмоции, вскакивая с места и повышая голос:
– Раньше ты бы не стал напиваться со студентами в вонючем баре!
Потряся головой яростно, словно смахивая жуткое видение, старший едва разборчиво зашептал «хватит, хватит, хватит» и попросил, прикрыв ладонями глаза «сыграй мне что-нибудь, пожалуйста».
И Чанель, видимо, тоже понял, что успокоение у них сейчас в приоритете.
Снова разместившись на лавочке, он заиграл очень приятную, мелодичную музыку, перебирая струны и налегая на ноты, которые никогда раньше не брал.
Звук был легкий, задорный, а дополнением шло какое-то мурлыкание, абсолютно не свойственное Чанелю, раньше прокусывающий в процесс себе губы в кровь. Новая песня была так чиста и ослепительна, что хотелось морщиться и поскорей отвернуться.
Бэкхен не понимал, что не так. Почему они сейчас в центральном парке, который никогда не был пунктом встреч? Был – для городской молодежи, для них – нет?
В голове крутилось сравнение с днем, когда они так же сидели на подоконнике больницы и запевали Black Sabbath, пока их не прогнали ворчанием за «мрачное навождение». Второе перевешивало. Второе было дороже.
– Что это? – спросил Бэкхен, когда Чанель закончил и поднял голову. – Такое нетепично для тебя. Очень… светло.







