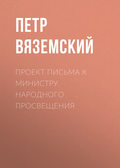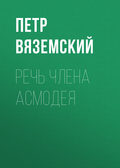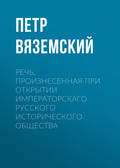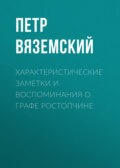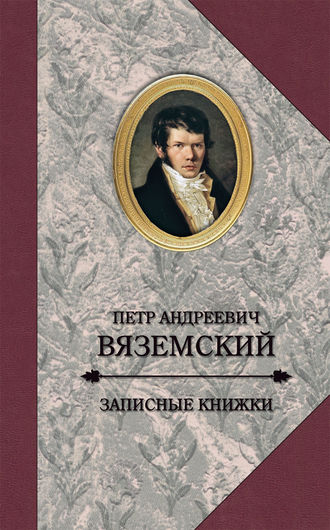
Петр Вяземский
Записные книжки
– Не могу придумать, что сделают с этим мальчишкой.
– С каким мальчишкой?
– Наполеоновым сыном!
– Кажется, – возразил Пушкин, – пристроиться ему будет нетрудно; он наследует французский престол.
– Какой вздор! Наполеон заживо погибнет, и всё приведено будет в прежний порядок.
В прогулке говорили мы с Каннингом о великане, которого показывают в балагане и который, по замечанию врачей, должен умереть, когда перестанет расти. В тот же день за обедом разговорились о Наполеоне; вспомнили, что он не умел довольствоваться тем, что казалось верхом счастья Фридриху. «Ничего человеку, – говаривал он, – присниться лучшего не может, как быть королем Франции». Каннинг заметил, что Наполеону новые завоевания были нужны и необходимы, чтобы удержаться на престоле. Я применил к нему замечание, сделанное мной о великане: в натуре Наполеона, может быть, была потребность или всё расти, или умереть.
Каннинг сказывал, что читал письмо Байрона, в котором он писал издателю и книгопродавцу своему: «Чтобы наказать Англию, я учусь итальянскому языку и надеюсь быть чрез несколько лет в состоянии писать на нем как на английском. На итальянском языке напишу лучшее свое произведение, и тогда Англия узнает, кого она во мне лишилась». По словам Каннинга, Байрон был человек великой души, но слабых нервов и слишком подвержен силе внешних впечатлений. Однажды спросил Каннинг поэта, когда явится в свет книга приятеля его
Гоб-Гуза[6], путешествие его по Греции. «Гоб-Гуз, – отвечал Байрон, – одной натуры со слонихою».
О немецких переводах с древних языков, гекзаметрами, говорит он, что, как они ни верны, но – безжизненны. «Предпочтительно (продолжает он) знавать поэта в младенчестве его, чем знать черты его».
Следующее тоже из разговора с Каннингом.
Еще до напечатания книги своей о посольстве в Варшаве Прадт изустно и часто упоминал о восклицании, которое влагал он в уста Наполеона: «Одним человеком менее, и я был бы властелином Вселенной». При первом свидании с Веллингтоном, после первых и лестных приветствий касательно военных действий его в Испании, Прадт в кружке слушателей, около них собравшихся, сообщил Веллингтону вышеупомянутое изречение Наполеона. Веллингтон с достоинством и смирением опустил голову, но Прадт, не дав ему времени распрямиться, с жаром продолжал: «И этот человек я». Посудите о coup de theatre (драматическом эффекте) и неожиданности, выразившейся в лице Веллингтона и других слушателей.
Вообще разговор Каннинга степенен, но приятен и разнообразен. Речь его похожа на самое лицо его: при первом впечатлении оно несколько холодно, но ясно и во всяком случае замечательно. Даже не лишено оно некоторых оттенков простодушия, если не проникать слишком глубоко. Впрочем, разумеется, он в России не показывался нараспашку; всё же должна была быть некоторая дипломатическая драпировка.
Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на он и она, а этот – оно».
Доклады и представления военных лиц происходили у Аракчеева очень рано, чуть ли не в шестом или седьмом часу утра. Однажды представляется ему молодой офицер, приехавший из армии и мертвенно пьяный, так что едва держится на ногах и слова выговорить не может. Аракчеев приказывает арестовать его и свести на гауптвахту, а в течение дня призывает к себе адъютанта своего князя Илью Долгорукова и говорит ему: «Знаешь ли, у меня не выходит из головы этот молодой пьяный офицер: как мог он напиться так рано и еще пред тем, чтобы явиться ко мне! Тут что-нибудь да кроется. Потрудись съездить на гауптвахту и постарайся разведать, что это значит».
Молодой офицер, немного протрезвев, признается Долгорукову: «Меня в полку напугали страхом, который наводит граф Аракчеев, когда ему представляются; уверяли, что при малейшей оплошности могу погубить карьеру свою на всю жизнь. И я, который никогда водки не пью, для придачи себе бодрости, выпил залпом несколько рюмок. На воздухе меня разобрало, и я к графу явился в этом несчастном положении. Спасите меня, если можно!»
Долгоруков возвращается к Аракчееву и всё ему рассказывает. Офицера приказали тотчас выпустить из гауптвахты и пригласить на обед к графу на завтрашний день. Ясно, что офицер является в назначенный час совершенно в трезвом виде. За обедом Аракчеев обращается с ним очень ласково, а после обеда, отпуская, говорит ему: «Возвратись в свой полк и скажи товарищам своим, что Аракчеев не так страшен, как они думают». (Рассказано князем Ильей Долгоруковым.)
* * *
Какой-то шутник уверяет, что когда в придворной церкви при молитве «Отче наш» поют: «Но избави нас от лукавого», то князь Меншиков, крестясь, искоса глядит на Ермолова, а Ермолов делает то же, глядя на Меншикова.
* * *
Лукавство и хитрость очень ценятся царедворцами; но в прочем это мелкая монета ума: при одной мелкой монете ничего крупного и ценного не добудешь.
* * *
Говорят, что Растопчин писал в 1814 году жене своей: «Наконец его императорское величество милостиво согласился на увольнение мое от генерал-губернаторства в этом негодном городе».
Во всяком случае нет сомнения, что Москва-негодница была довольна увольнением Растопчина. При возвращении его в Москву, освобожденную от неприятеля, когда мало-помалу начали съезжаться выехавшие из нее, общественное мнение оказалось к Растопчину враждебным. В дни опасности все в восторженном настроении патриотического чувства были готовы на все возможные жертвы. Но прошла опасность, и на принесенные жертвы и на понесенные убытки стали смотреть другими глазами. Хозяева сгоревших домов начали сожалеть о них и думать, что, может быть, и не нужно было их жечь. Как бы то ни было, но разлад между Растопчиным и Москвой доходил до высшей степени. Растопчин был озлоблен неприязненным и, по мнению его, неблагодарным чувством московских жителей. Он, кажется, сохранил это озлобленное чувство до конца жизни своей.
На празднике, данном в Москве в доме Полторацкого после вступления наших войск в Париж, это недоброжелательство к Растопчину явилось в следующем случае. Когда пригласили собравшихся гостей идти в залу, где должно было происходить драматическое представление, князь Юрий Владимирович Долгоруков поспешил подать руку Маргарите Александровне Волковой и первый вошел с ней в залу. Вся публика пошла за ним. Граф Растопчин остался один в опустевшей комнате. Когда кто-то из распорядителей праздника пригласил его пойти занять приготовленное для него место, он отвечал: «Если князь Юрий Владимирович здесь хозяйничает, то мне здесь и делать нечего, я сейчас уеду». Наконец, после убедительных просьб и удостоверения, что спектакль не начнется без него, уступил он и вошел в залу.
* * *
Граф Ираклий Иванович Марков, командовавший московским ополчением, носил мундир ополченца и по окончании войны. Растопчин говорил, что он воспользовался войной, чтобы не выходить из патриотического халата.
* * *
Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, то есть о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, чем слово дневальный! Нет, вздумали вместо него ввести и облагородить слово дежурный, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального».
* * *
Адмирал Чичагов после Березинской передряги невзлюбил Россию, о которой, впрочем, говорят, и прежде отзывался свысока и довольно строго. Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему со своей квакерской (а при случае и язвительной) откровенностью:
– Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах.
– А что, например? – спросил Чичагов.
– Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России.
Чичагов был назначен членом Государственного совета, но после нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, – отвечал Чичагов, – шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что всё уже устроено в России и собираться Совету не для чего».
* * *
В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:
Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.
Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.
* * *
Денис Давыдов спрашивал однажды князя К., знатока и практика в этом деле, отчего вечером охотнее пьешь вино, нежели днем. «Вечером как-то грустнее», – отвечал князь с меланхолическим выражением в лице. Давыдов находил что-то особенно поэтическое в этом ответе.
* * *
Императрица Екатерина отличалась необыкновенной тонкостью и вежливостью в обращении с людьми. Однажды на бале хотела она дать приказание дежурному камер-пажу и сделала знак рукой, чтобы подозвать его к себе. Но он того не заметил, а вице-канцлер Остерман вообразил, что этот знак обращен к нему. Опираясь на свою длинную трость, поспешил он подойти. Императрица встала со своих кресел, подвела его к окну и несколько времени с ним говорила. Потом, возвратившись на свое место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. «Могла ли я поступить иначе? – продолжала императрица. – Я огорчила бы старика, давши ему почувствовать, что он ошибся; а теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении, что я в самом деле его подзывала. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я».
В другой раз гофмаршал князь Барятинский ошибкой вместо девицы графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингоф, о которой императрица и не думала. Увидев неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной; графиню же Фитингоф велела внести в список лиц, приглашаемых в большие эрмитажные собрания, с тем, чтобы не могла догадаться она, что на этот раз была приглашена ошибочно.
Императрица очень любила старика Черткова. Он был неприятный и задорный игрок. Однажды, играя с ней в карты и проиграв игру, он так рассердился, что с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала и, поскольку вечер уже кончился, встала, поклонилась присутствующим и ушла в свои покои. Чертков остолбенел и обмер. На другой день, в воскресенье, был обыкновенный во дворце воскресный обед. В это день обед устроили в Царскосельской колоннаде. Гофмаршал князь Барятинский вызывал лиц, которые были назначены императрицей к собственному ее столу. Несчастный Чертков прятался и стоял в углу, ни жив ни мертв. Вдруг слышит он, что подзывают и его, и сам не верит ушам своим. Когда подошел он, императрица встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по колоннаде, не говоря ни слова. Возвратившись к столу, сказала она ему: «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?»
Во время путешествия императрицы по Южной России она ехала в шестиместной карете. Иван Иванович Шувалов и граф Кобенцель находились с ней бессменно, а барон Сент-Элен и граф Сегюр приглашались в карету поочередно. На императрице была прекрасная шуба, покрытая бархатом. Австрийский посол похвалил ее. «Один из моих камердинеров занимается этой частью моего туалета, – сказала императрица, – он так глуп, что другой должности поручить ему не могу». Граф Сегюр, в минуту рассеяния расслышав только похвалы шубе, поспешил сказать: «Каков барин, таков и слуга». Общий взрыв смеха встретил эти слова.
За обедом в дороге граф Кобенцель всегда сидел возле нее. В тот же день императрица шутя сказала ему, что он, вероятно, начинает скучать своей постоянной соседкой. На этот раз и на Кобенцеля нашла минута рассеяния, подобная рассеянию графа Сегюра, и он отвечал, вздыхая: «Соседей своих не выбираешь». Эта вторая выходка возбудила такой же смех, как и первая.
Наконец, в тот же день вечером императрица привлекла общее внимание каким-то интересным рассказом. Барона Сент-Элена не было в комнате. Когда он возвратился, императрица по просьбе всего общества соизволила повторить для него свой рассказ. Сент-Элен, утомленный с дороги, начал, слушая ее, зевать и скоро задремал. «Этого только недоставало, господа, чтобы довершить любезность вашу, – сказала императрица, – я вполне довольна».
Никто не мог быть величественнее императрицы во время торжественных приемов. Никто не мог быть ее приветливее, любезнее и снисходительнее в малом кругу приближенных к ней лиц. Перед тем как садиться за игру в карты, окидывала она общество взглядом, желая убедиться, что каждый пристроен. Она до того простирала внимание, что приказывала опускать шторы, когда замечала, что солнце кому-нибудь неприятно светит в глаза. Однажды играла Екатерина на бильярде с кем-то из приближенных царедворцев. В это время вошел Иван Иванович Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие сочли это насмешкой и засмеялись принужденным и угодливым смехом. Тогда императрица приняла серьезный вид и сказала: «Вот уже сорок лет, что мы друзья с господином обер-камергером, а потому нам очень извинительно шутить между собою». (Все эти подробности об императрице Екатерине собраны из рассказов графини Головиной.)
Князь Юсупов говорит, что императрица любила повторять следующую пословицу: «Не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым».
Князь Яков Иванович Лобанов говорит, что императрица имела особенный дар приспосабливать к обстоятельствам выражение лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу, так сказать углаживала, прибирала черты свои и являлась в приемную залу со светлым и царственно приветливым лицом. Так, сказывают, было, когда она получила известие о революционном движении и кровавых событиях в Варшаве. Императрице доложили о приезде курьера. Она пошла в свой кабинет, прочла доставленные ей донесения и выслушала рассказы приезжего. Можно представить себе, как всё это ее взволновало. Она очень вспылила и топала ногами. Пробыв несколько времени в кабинете, возвратилась она в комнату, где оставила общество, с великим князем Константином Павловичем под руку и, смеясь, сказала: «Не осуждайте меня, что являюсь с молодым человеком». Она досидела весь вечер как ни в чем не бывало, и никто не мог догадаться, что у нее было на уме и на душе.
* * *
Князь Платон Степанович Мещерский был при Екатерине наместником в Казани, откуда приехал он с разными проектами и бумагами для представления их на благоусмотрение императрицы. Бумаги были ей отданы, и Мещерский ожидал приказания явиться к императрице для доклада. Однажды на куртаге императрица извиняется перед ним, что еще не призывала его. «Помилуйте, ваше величество, я ваш, дела ваши, губернии ваши; хоть меня и вовсе не призывайте, это совершенно от вас зависит». Наконец день назначен. Мещерский является к императрице и перед началом доклада кладет шляпу свою на столик ее, запросто подвигает стул себе и садится. Государыня сначала была несколько удивлена такой непринужденностью, но потом, разобрав его бумаги и выслушав его, осталась им очень довольна и оценила его ум.
Павел Петрович, будучи еще великим князем, полюбил Мещерского. Однажды был назначен у великого князя бал в Павловске или в Гатчине. Племянник Мещерского, граф Николай Петрович Румянцев, встретясь с ним, говорит, что надеется видеться с ним в такой-то день.
– А где же?
– Да у великого князя: у него бал, и вы, верно, приглашены.
– Нет, – отвечает Мещерский, – но я все-таки приеду.
– Как же так? Великий князь приглашает, может быть, только своих приближенных.
– Всё равно, я так люблю великого князя и великую княгиню, что не стану ожидать приглашения.
Румянцев для предупреждения беды счел за нужное доложить о том великому князю, который, много посмеявшись, велел пригласить Мещерского.
Поговорка старая стала – плохая стала ведется от этого Мещерского. Эти слова сказаны о нем казанским татарином.
При проезде Мещерского через какой-то город Казанской губернии городничий не велел растворять ворота какого-то здания, хотел провести его через калитку. «Это что? – говорит наместник. – Я-то пролезу, но чин мой не пролезет». Император Павел, собираясь ехать в Казань, сказал ему: «Смотри, Мещерский, не проведи меня через калитку: мой чин еще повыше твоего». (Рассказано Петром Степановичем Молчановым.)
* * *
Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. «Жаль, – сказал NN, – что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим».
* * *
Бенкендорф (отец Александра Христофоровича) был очень рассеян. Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя.
– А как ваша фамилия? – спрашивает его почтовый чиновник.
– Моя фамилия? – повторяет он несколько раз и никак не может ее вспомнить.
Наконец говорит, что придет после, и уходит. На улице встречается он со знакомым.
– Здравствуйте, Бенкендорф.
– Как ты сказал? Да, да, Бенкендорф! – И тут же бежит на почту.
Однажды он был у кого-то на бале. Бал довольно поздно окончился, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел плохо: тому и другому хотелось отдохнуть и спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением, и хозяину нельзя было объяснить напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился сказать:
– Может быть, экипаж ваш еще не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету.
– Как вашу карету?! Да я хотел предложить вам свою…
Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся.
Бенкендорф был один из самых близких людей при дворе их высочеств Павла Петровича и Марии Федоровны. Отношения эти никогда не изменялись. В последние годы жизни переехал он на житье в Ригу. Ежегодно в день именин и в день рождения императрицы Марии Федоровны писал он ей поздравительные письма. Но был чрезвычайно ленив и, несмотря на всю преданность свою и на сердечные чувства, очень тяготился этой обязанностью. Когда подходили сроки, мысль о том, что надо написать письмо, беспокоила и смущала его. Он часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и скорее».
* * *
Граф Остерман, брат вице-канцлера, тоже славился своей рассеянностью.
Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано полотно. Граф принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать полотно в карман. Наконец общий хохот присутствующих дал ему опомниться.
В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как войти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под рукой, явился с нею в гостиную, где уже собралось всё общество.
За этим обедом или за другим зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки за свою, начал тереть ее.
* * *
В наше время отличается рассеяньями своими граф Михаил Виельгорский. Против воли своей, но по необходимой обязанности, отправился он к кому-то с визитом. И когда лакей, возвратясь к дверцам кареты, сказал ему, что принимают, он поспешно выговорил лакею: «Скажи, что меня дома нет».
* * *
К Державину навязался сочинитель прочесть ему произведение свое. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании. Так случилось и в этот раз. Жена
Державина, возле него сидевшая, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и автора, сказал он ей с досадой, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться».
* * *
Известно, что не только Бонапарт, но и Наполеон на вершине могущества своего не пренебрегал журналистикой. и она была в руках его броненосным орудием, которое он обращал против врагов своих, готовясь их поработить или застращать.
В Англии издавалась газета «Лондонский Курьер», вероятно, на французские деньги. В №14 от 18 февраля 1802 года была напечатана статья против графа Маркова, бывшего тогда посланником в Париже. Из этой статьи видно, что какой-то Фульо рассылал по Европе скорописные вести, неблагоприятные для Первого консула и французского правительства. Фульо был арестован, и в министерстве полиции производили над ним следствие. По следствию оказалось, что он получал денежные пособия за эти бюллетени, и, справедливо или нет, но французское правительство стало подозревать, что тут замешаны и марковские деньги. Изложив ход событий, лондонская газета прибавляет, что «никто не мог ожидать, что будет упомянуто имя графа Маркова. Смешно было бы серьезно опровергать подобные небылицы и смотреть на них как на государственные дела. Указывать на должность посла нужно, соблюдая большую осторожность, приличие и достоинство, чтобы не нарушить уважения и доверенности правительства, при коем он аккредитован».
Тут же рассказывается, что вскоре после этого Первый консул, встретясь с Марковым, спросил его: не по бюллетеням ли дает он двору своему сведения о положении Франции? Марков, смущенный и пристыженный, не мог от замешательства ничего сказать. Спустя несколько секунд собрался он что-то выговорить, но улыбка Первого консула показала, что он не придает никакой важности этому делу.
Графа Маркова некоторые обвиняют в недостатке твердого и самостоятельного характера. Он очень умен и остер, но в дипломатии и вообще в государственных делах этого недостаточно. Главное дело – способность умно вести себя, что гораздо мудрее и реже встречается, чем способность умно говорить. Маркова еще в царствование Екатерины обвиняли в неудаче переговоров со шведским королем, перед помолвкой его с великой княжной Александрой Павловной. Во время посольства в Париже упрекали его в том, что он то слишком мирволит Бонапарту то досаждает ему вздорными и задорными выходками.
* * *
«Вы готовите себе печальную старость», – сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре.
Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства приучаемся и готовимся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты – одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре азартной.
Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун.
Пушкин, во время пребывания своего в Южной России, ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою.
Богатый граф Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознатель по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя.
Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму и поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть и эта поэзия, это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, чем проигрывать.
Но мы здесь говорим о мирной, коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барышня говорила в Венеции: «Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферанс». Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, доволен ли он Парижем: «Очень доволен, у нас каждый вечер была партия».
Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» – такой похвалы достаточно, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Примеры упадка умственных сил человека от болезни или от лет не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но начни игрок забывать козыри – и он скоро возбуждает опасение своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой вид остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием «Физиология колоды карт».
Впрочем, значительное использование карт имеет у нас и свою хорошую, нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения.
* * *
По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка. Чиновник не занимал особенно значительного места и ни по каким данным не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику.
– Он пьяница, – отвечал государь.
– Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по несколько раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие?
– А вот что, – сказал государь. – Одним летом в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка сидел в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин – подайте водки».
Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и опала с несчастного чиновника была снята. (Слышано от Петра Степановича Молчанова; но, может быть, фамилия чиновника немножко искажена.)
* * *
У многих любовь к отечеству заключается в ненависти ко всему иноземному. У этих людей и набожность, и религиозность, и православие заключаются в одной бессознательной и бесцельной ненависти к власти папы.
* * *
Иной и не лжет прямо, и лжецом слыть не может, но мастерски умеет обходить правду. Некоторого рода обходы иногда нужны для вернейшего достижения цели; но опасно слишком вдаваться в эти обходы: кончишь тем, что запутаешься в проселках и на прямую дорогу никогда не выйдешь.
Один барин не имел денег, а очень хотелось ему их иметь. Говорят, голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разъезда по дальним губерниям и на этих подорожных основал свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, начнет он важно и громко читать подорожную: «По указу его императорского величества…» При этих словах он совершит крестное знамение, а за ним начнет креститься и весь народ. Когда же дойдет до слов: «Выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских», – тут скажет он, что у него именно оных-то и нет, то есть прогонов, то есть денег, а потому и требует он от обывателей такую-то сумму. Получив подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку.
* * *
Когда побываешь в Англии, то убедишься, что в нравах и обычаях английского общества и общежития есть довольно много гнилых посадов (буквальный перевод rotten boroughs, что, впрочем, и у французов переводится как bourg pourri[7]). Легкомысленно было бы признавать за несомненное следствие образованности всё, что здесь видишь. Напротив, много ускользнуло от образованности и осталось в первобытной своей неуклюжести и дикости: англичане упрямы, самолюбивы и сознательно и умышленно односторонни. Они преимущественно консерваторы в домашнем быту и во внутренней политике. Они позволяют себе ломать и очень смелы в ломках своих только во внешней политике.
Французский писатель Сюар где-то рассказывает, что на Гебридских островах присутствие иностранного путешественника заражает воздух и вызывает кашель у всех обывателей. Нет сомнения, что и присутствие иностранца в английском обществе, пока он себя совершенно не англизирует, должно производить раздражение, как присутствие разнородной и даже противородной стихии.
Кашель не кашель, а должно кожу морозом продирать – так все привычки жизни и весь день их тесно вложены в законную мерку и рамку. Оттого в английской жизни нет ничего нечаянного, скоропостижного. Оттого общий результат должен быть – скука. Недаром сказано: «L’en-nui naquit un jour de runiformite»[8].
Нечего и говорить, что некоторых слов и выражений нет ни в английском языке, ни в английских понятиях. Например, как-нибудь, покуда, по-домашнему, по-дорожному, запросто и т.п. В Англии всё вылито в одну форму или в известные формы. Англичанин в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собой из одного края Англии до другого, или, лучше сказать, благодаря общему благоустройству в Англии находит готовыми: дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в гостиницах.
Между Парижем и провинцией лежат столетия. В некоторых отношениях вся Англия есть продолжение Лондона. Англичане никогда не скажут: «Что же нам теперь делать? За что приняться?» Давным-давно уже внесено в общее уложение, что делать в такой-то час и в такое-то время года.