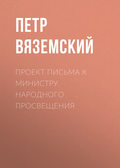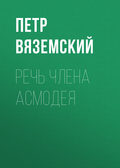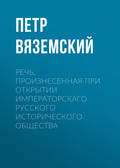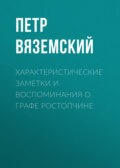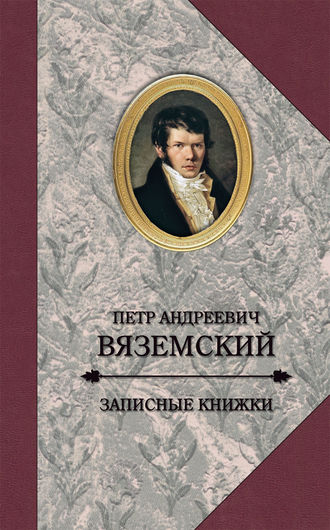
Петр Вяземский
Записные книжки
* * *
Козодавлев, будучи министром внутренних дел, очень заботился о развитии русской промышленности и о замене иностранных произведений своими, домашними. В газете «Северная Почта», издаваемой при министерстве и при личном наблюдении и участии самого министра, часто и много толковали о кунжутном масле. Когда Козодавлев умер, NN спрашивал: «Правда ли, что его соборовали кунжутным маслом?»
* * *
Великий князь Константин Павлович всегда отличал графиню Розалию Ржевускую, по красоте и по уму очень достойную его внимания. Цесаревич любил шутить над ее клерикальностью и часто обращался к ней со священными текстами. Однажды на бале она указала великому князю на одну даму, называя ее красавицей. «Вот что значит христианское смирение, – отвечал он ей. – Вы видите сучок в глазу у ближнего, а в своем бревна не замечаете».
* * *
Князь Юсупов (старик Николай Борисович) трунил над графом Аркадием Марковым по поводу старости его. Тот отвечал ему, что они одних лет.
– Помилуй, – продолжал князь, – ты был уже на службе, а я находился еще в школе.
– Да чем же я виноват, – возразил Марков, – что родители твои так поздно начали тебя грамоте учить.
* * *
У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», – отвечал он.
* * *
Дидеро витийствовал и гремел в кабинете императрицы Екатерины против льстецов, отсылая их прямо в ад. Екатерина переменила разговор. Спустя несколько времени спрашивает она у него: «Что говорят в Париже о последнем политическом перевороте, происходившем в России?» Дидеро запинается, отделывается общими выражениями, упоминает о случайностях государственной необходимости и т.д. Екатерина, улыбаясь, говорит ему: «Берегитесь, господин Дидеро. Если не прямо в ад, то по крайней мере идете вы в чистилище».
Екатерина долго и с жаром говорила о достоинствах Сюлли и о счастье государя, который имел подобного министра. «Найдись другой Генрих, сыщется другой Сюлли», – будто бы сказал на это Панин. (Но это невероятно, и ответ только приписан был Панину; и во всяком случае не графу Никите, а графу Петру Ивановичу Панину. Вообще, нужно с большой осторожностью доверять этим историческим изречениям, появляющимся задним числом.)
* * *
Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, венский посол при петербургском дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях – как лошадь».
* * *
Суворов писал князю Потемкину в 1790 году: «Истинная слава не может быть довольно оценена: она есть следствие жертвования собой в пользу общего блага».
* * *
В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, и отпускает различные приветствия, похвальные и восторженные.
Пушкин слушает их с удовольствием и сам с ней любезничает. На прощанье барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успевает он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования.
* * *
Карамзин рассказывал, как кто-то из малознакомых ему людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или четверть часа являются хозяева и просят его в столовую. Удивленный таким приемом, Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его? «Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься, и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг».
* * *
Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему, заставал его за письменным столом с пером в руках. «Что это вы пишите? – часто спрашивал он. – Нынче, кажется, не почтовый день».
* * *
Кто-то однажды навестил графа Ланжерона: он сидел в своем кабинете с пером в руках и писал отрывисто, с размахом, как многие подписывают имя свое в конце письма. После каждого подобного движения повторял он на своем ломаном русском языке: «Нье будет, нье будет!»
Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если когда-нибудь пожалован бы он был в фельдмаршалы, и вместе с тем чувствуя, что никогда фельдмаршалом ему не бывать.
Он был очень рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что подавало повод к разным комическим сценам. К. обедал у него в Одессе во время его генерал-губернаторства. Общество преимущественно составляли иностранные негоцианты. За обедом выхвалял граф удовольствия одесской жизни и, указывая на негоциантов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его, в то время был он особенно озабочен просьбой о прибавке ему столовых денег. «А не дадут мне прибавки, я этим господам и этого не дам!» – стал мыслить он вслух и схватил с тарелки своей косточку, оставшуюся от котлетки.
В приезд императора Александра в Одессу был приготовлен для него дом, занимаемый Ланжероном. Встретив государя и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, граф откланялся, вышел из кабинета и по привычке своей запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени взаперти, но наконец достучался, и освободили его от заточения.
Ланжерон был умный и вообще довольно деятельный человек, но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами. Когда являлись к нему чиновники с докладами, случалось, он от них прятался, выходил из дому какими-нибудь задними дверьми и пропадал на несколько часов.
Кажется, граф Каменский (молодой) во время Турецкой войны объяснял ему свои планы будущих военных действий. Как нарочно, на столе лежал журнал «Французский Меркурий». Ланжерон машинально раскрыл его и напал на шараду, в журнале напечатанную. Продолжая слушать изложение военных действий, он невольно занялся разгадыванием шарады. Вдруг, перебивая речь Каменского, вскрикнул он: «Что за глупость!» Можно представить себе удивление Каменского; но вскоре дело объяснилось, когда он узнал, что восклицание Ланжеро-на относилось к глупой шараде, которую тот разгадал.
В другой раз, чуть ли не на заседании какого-то военного совета, заметил он собачку под столом, вокруг коего сидели присутствующие. Сначала, неприметно для других, стал граф движением пальцев призывать к себе эту собачку. Она подошла, он начал ее ласкать и вдруг, причмокивая, обратился к ней с ласковыми словами.
Разумеется, все эти выходки не вредили Ланжерону, а только забавляли и смешили зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего человека и храброго генерала. В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание: «Ви пороху нье боитесь, но затьо ви его нье видумали».
Однажды во время своего градоначальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи: «Какой ви негоцьант, ви маркитант; какой ви купец, ви овец!» – и движением руки своей изобразил козлиную бороду.
Однажды за обедом у императора Александра сидел он между генералами Уваровым и Милорадовичем, которые очень горячо разговаривали между собой. Государь обратился к Ланжерону с вопросом, о чем идет их живая речь. «Извините, государь, – отвечал граф, – я их не понимаю: они говорят по-французски». Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку.
В молодости своей Ланжерон писал трагедии, как и все мало-мальски грамотные люди во Франции: у французов тогда была мода на трагедии, как у нас в то же время – на торжественные оды. В начале Французской революции 1789 года участвовал он в журнале «Les actes des Apotres», издаваемом, разумеется, в духе монархическом и в защиту королевской власти. Сотрудниками журнала были очень умные и остроумные люди, так что журнал часто удачно соперничал с оппозиционными периодическими изданиями. В Одессе Ланжерон дал Пушкину трагедии свои на прочтение. Кажется, Пушкин их не прочел и, спустя несколько времени, на вопрос
Ланжерона, которая из трагедий более ему нравится, отвечал наугад, именуя заглавие одной из них. В ней выведен был республиканец.
* * *
– За что многие не любят тебя? – кто-то спрашивал Ф. И. Киселева.
– За что же всем любить меня? – отвечал он. – Ведь я не золотой империал.
* * *
Граф Толстой, известный под прозвищем Американец, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегает за каламбурами.
Однажды заходит он к старой своей тетке.
– Как ты кстати пришел, – говорит она, – подпишись свидетелем на этой бумаге.
– Охотно, тетушка, – отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». (Гербовый лист стоил несколько сот рублей.)
Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, всё добивался, чтобы граф познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами откладывал представление. Наконец однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он родственнику подвести его к Давыдову.
– Нет, – отвечает тот, – сегодня неловко: я лишнее выпил, у меня немножко в голове.
– Тем лучше, – говорит Толстой, – тут-то и представляться к Давыдову. – Берет его за руку и подводит к Денису, говоря: – Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове.
Князь *** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».
За дуэль или какую-то проказу был посажен граф в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему, что срок содержания его в крепости миновал, и начал он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбой, то с жалобой, то с упреками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальству пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту офицерскую бумагу, где-то совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. «Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в непременную обязанность ответствовать». И тут же стал снова излагать свои доводы, жалобы и требования.
Шепелев (генерал Дмитрий Дмитриевич) говорит всегда несколько высокопарно. Однажды сказал он Толстому:
– Послушайся, голубчик, моего совета: если у тебя будет сын, учи его непременно гидравлике.
– Почему же именно гидравлике? – спрашивает Толстой.
– А вот почему. Мы, например, гуляем с тобой в деревне твоей, подходим к ручью, я беру тебя за руку и говорю: «Толстой, дай мне 100 тысяч рублей…»
– Нет, – с живостью прерывает его граф, – подведи меня хоть к морю, так не дам.
– Не в том дело, – продолжает Шепелев, – я увидел, что на этой речке можно построить мельницу или фабрику, которая должна дать до 20 и 30 тысяч рублей ежегодного дохода.
Когда появились первые восемь томов «Истории Государства Российского», Толстой прочел их одним духом и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него это Отечество есть. Впрочем, недостаток этого сознания не помешал ему в 1812 году оставить Калужскую деревню, в которую сослан он был на житье, и явиться на Бородинское поле: тут надел он солдатскую шинель, ходил с рядовыми в бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени.
* * *
Князь Чарторижский (старик, в конце прошлого столетия) распустил по Варшаве слух, что приехал знаменитый гадатель, обладающий удивительным дарованием узнавать прошедшее и угадывать будущее; что остановился он в Пражском предместье, в таком-то доме и в такие-то часы принимает посетителей. В эти часы отправлялся князь сам в назначенное место, переряжался и в темной комнате давал свои аудиенции. Разумеется, всё общество хлынуло к нему, и в особенности дамы. Он знал всех жителей варшавских, более или менее все их действия, желания и помыслы, а потому и легко было ему удивлять всех своим чудесным всеведением. Между тем узнал князь и многие новые тайны, которые перед ним обнаружились и невольно были высказаны. И жена его попалась в эту сеть. Может быть, и она проговорилась, и всеведущий маг узнал иное, чего не знал. Вот хороший сюжет для повести или для оперетки.
* * *
Канцлер Румянцев когда-то сказал, что Наполеон не лишен какого-то простодушия. Все смеялись над этим мнением и приписывали его недальновидности ума Румянцева. А может быть, он был и прав. В частных сношениях Наполеона с приближенными и подчиненными ему людьми была некоторая простота, как оказывается из многих рассказов и отзывов. К тому же, по горячности своей, он был нередко нескромен и проговаривался.
Н.Н.Новосильцев рассказывал, что за столом у государя Румянцев, по возвращении своем из Парижа, сказал следующее: «В одном из моих разговоров с Наполеоном осмелился я однажды заметить ему: “Неужели, государь, при достижении подобного величия и высоты, не подумали вы, что, сколько вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас? Избрали ли вы достойного себе наследника и преемника вашей славы?” “Поверите ли, граф, – отвечал Наполеон, ударяя себя по лбу, – что мне это и в голову не приходило! Благодарю. Вы меня надоумили”».
Оставляю на произвол каждого решить, не солгал ли тут кто-нибудь из трех; а на правду что-то не похоже.
* * *
Князь Дашков, сын знаменитой матери, имел, говорят, в обращении и в приемах своих что-то барское и отменно-вежливое, что, впрочем, и бывает истинным признаком человека благорожденного и образованного. В доказательство этих качеств князя Дашкова В.Л.Пушкин приводит следующий случай.
Он, то есть Пушкин, и зять его Солнцев были коротко знакомы с князем и могли обедать у него запросто. Однажды заезжают они к нему в час обеда и застают всё отборное московское общество, всех сановников и всех наличных Андреевских кавалеров. Увидев, что на этот раз приехали они невпопад, уезжают домой. Неделю спустя получают они от князя приглашение на обед, приезжают и находят то же общество, которое застали в тот день.
* * *
В 1809 или 1810 году приезжал в Москву Бог знает откуда какой-то чудак, который выдавал себя за барона Жерамба, носил черный гусарский мундир и вместо звезды на груди – серебряную мертвую голову. Он уверял, что этот мундир и эта голова были присвоены полку, который он поставил на своем иждивении в Австрии во время войны. Всё это казалось очень баснословно, но сам он был очень мил и любезен и хорошо принят в лучших московских домах.
Сначала жил барон очень широко, разъезжал по Москве в щегольской карете цугом, играл в карты, проигрывая довольно значительные суммы, и т.п. Наконец денежные средства его, по-видимому, истощились. В подобной крайности написал он княгине Дашковой письмо такого содержания: что видел он Родосский колосс, Египетские пирамиды и подобные тому чудеса и не умрет спокойно, если не удостоится увидать княгиню Дашкову. Старушка была тронута этим лестным приветом и пригласила его к себе. В первое же свое посещение попросил барон у княгини дать ему взаймы 25 тысяч рублей. Княгиня, разумеется, не дала, и знакомство их на этом и кончилось.
Когда русские войска вступили в Париж, многие офицеры, знавшие Жерамба в России, нашли его в Париже траппистом под именем отца Жерамба. Он, кажется, несколько был известен и литературными произведениями. Во время пребывания своего в Москве обратил он сердечное внимание свое на одну девицу и, не смея ей в том признаться, написал в альбом ее брата: «Я бы вас обожал, если бы вы были вашей сестрой».
* * *
Говоря о некоторых блестящих счастливцах, NN сказал: «От них так и несет ничтожеством».
* * *
Князь Голицын прозван Jean de Paris (название современной оперы), потому что в Париже, во время пребывания наших войск, он выиграл в одном игорном доме миллион франков и, спустя несколько дней, проиграл их так, что не с чем было ему выехать из Парижа.
Он большой чудак и находится на службе при великом князе в Варшаве в должности – как бы сказать? – забавника. И в самом деле, он очень забавен при какой-то сановитости в постановке и кудреватости в речах. Надобно прибавить, что он от природы всегда был немного трусоват. Однажды ехал он в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось.
– Осмелюсь заметить, – сказал он, – и доложить вашему императорскому высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: «Здесь лежит тело Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Павловича».
– А Михель? – спросил великий князь (Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя).
– Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего императорского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет».
В другой раз говорил он великому князю: «Вот, кажется, ваше высочество, и несколько привыкли ко мне, и жалуете, и удостаиваете меня своим милостивым благорасположением, но всё это ненадежно. Пришла бы на ум государю мысль сказать вам: “Мне хотелось бы съесть Голицына”, – вы только бы и спросили: “А на каком соусе прикажете изготовить его?”».
Однажды захотелось князю получить прибавку к содержанию, казенную квартиру и еще что-то подобное в этом роде. Передал он свои пожелания генералу Куруте. Тот имел привычку никогда и никому ни в чем не отказывать. «Очень хорошо, топ cher, — сказал он Голицыну, – в первый раз, что мы с вами встретимся у великого князя, я при вас же ему о том доложу». Так и случилось. Начался между великим князем и Курутой, как и обыкновенно бывало, разговор на греческом языке. Голицын слышит, что несколько раз было упоминаемо имя его. Слышит он также, что на предложения Куруты великий князь не раз отвечал: «Калос». Все принадлежащие варшавскому двору довольно были сведущи в греческом языке, чтобы знать, что слово калос значит по-русски хорошо. Голицын в восхищении.
При выходе из кабинета великого князя Голицын только что собирался изъявить свою глубочайшую благодарность Куруте, тот с печальным лицом объявляет ему: «Сожалею, топ cher, не удалось мне удовлетворить вашему желанию; но великий князь во всем вам отказывает и приказал мне сказать вам, чтобы вы впредь не осмеливались обращаться к нему с такими пустыми просьбами».
Что же оказалось после? Курута, докладывая о ходатайстве Голицына, прибавлял от себя по каждому предмету, что, по его мнению, Голицын не имеет никакого права на подобную милость; а в конце заключил, что следовало бы запретить Голицыну повторять свои домогательства. На всё это великий князь и изъявлял свое совершенное согласие.
Надобно видеть и слышать, с каким драматическим и мимическим искусством Голицын передает эту сцену, которой искусный комический писатель мог бы воспользоваться с успехом.
* * *
На довольно многолюдном вечере у варшавского коменданта Левицкого Н.Н.Новосильцев имел неприятную стычку с одним из адъютантов великого князя. Сгоряча дал он ему почувствовать, что власть, которой он официально уполномочен, может простираться и на этого адъютанта.
Разумеется, происшедшее было доведено до сведения цесаревича, который остался очень недоволен. Пошли переговоры, Новосильцев был не прочь и от поединка, но дело обошлось миролюбиво, хотя, может быть, и более неприятным для Новосильцева образом. Вследствие посредничества со стороны цесаревича Новосильцев должен был сказать несколько извинительных слово адъютанту в том же доме и перед тем же обществом, которое было свидетелем стычки. Так и случилось. С этой поры политическое и нравственное значение Новосильцева в Варшаве было несколько потрясено, из независимого положения перешел он в другое, которое подчинило независимость его постороннему влиянию.
Спрашивали у Васеньки Апраксина, одного из зрителей этой примирительной сцены, как обошлось всё дело. «Очень хорошо, – отвечал он. – Байков (старший и ближайший к Новосильцеву чиновник) ввел его в комнату и сказал ему: “Сын Святого Людовика, посмотри на солнце”». Известно, что эти слова были сказаны духовником несчастного Людовика XVI, когда он всходил на эшафот. Замечательна находчивость Апраксина в подобных случаях. Он не знал истории, ничего никогда не читал, вероятно, как-то мельком слыхал про это изречение и тут же применил его так метко, остроумно и забавно.
Кроме самовыращенного дарования на острые слова Апраксин имеет еще и другие таланты. Никогда не учась музыке, поет он прекрасно и разыгрывает на клавикордах лучшие места из слышанных им опер. Никогда не учась рисованию, он мастерски владеет карандашом и пишет прекрасные карикатуры. У генерала Синягина есть большой альбом, Апраксиным исписанный: в смешных и метких изображениях проходит тут всё петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопамятностью.
* * *
В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная ощутительность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».
* * *
Многое можно в прошлой истории нашей объяснить тем, что русский, то есть Петр Великий, силился сделать из нас немцев, а немка, то есть Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.
* * *
Я желал бы славы себе, но не для себя, а чтобы озарить ею могилу отца и колыбель сына.
* * *
Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит:
– Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не плошай.
– Нет уж, извините, – вскочил со стула и, подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет.
И он возвратился на свое место.
* * *
В старой Москве живал один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славящийся актерским искусством своим в домашних театрах, но, по несчастию, донельзя пристрастный к пиву. Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.
Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах Левашов этот не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои как будто случайно».
* * *
В Москве до 1812 года не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли consomme.
На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон – по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.
Дмитриев отказывается от бульона. Василий Львович подбегает к нему и говорит:
– Иван Иванович, да ведь это consommel
— Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что не ромашка, а все-таки пить не хочу.
Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя света он не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.
* * *
Проходило какое-то торжественное празднество в Кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А.Л.Нарышкин подходит к великому князю и говорит:
– У меня тоже здесь свой кадет.
– Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его.
Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит:
– Вот он.
Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и тряс своей напудренной и тщательно завитой головой[5].
А.Л.Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него тому причину. Нарышкин отвечал, что причина в басне Лафонтена «Ворона и лисица». Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был лакомкой и начал выхвалять сыры в надежде, что Румянцев и его оделит гостинцем.
Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».
Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразователях в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не надивишься. Один ходит по самому краю высокой крыши, другой – по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».
Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав!
Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные качества привлекали к Павлу любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать, раздраженного событиями нрава.
Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним разражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в императорской коляске. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю:
– Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал.
– Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски.
Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово представитель, как и круглые шляпы с кокардой, было под запретом у императора.
В эту поездку лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилье. Но всё это случилось в добрый час. Император спрашивает лекаря, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что квартира отведена ему тут. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик ответил, что Вилье сказал про себя, что он анператор.
— Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император – я, а он – оператор.
– Извините, батюшка, – сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, – я не знал, что вас двое. (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)
* * *
NN говорит: «Если, сходно с поговоркой, говорится, что рука руку моет, то едва ли не чаще приходится сказать: рука руку марает».
* * *
При Павлове (Николае Филипповиче) говорили об общественных делах и о том, что не следует разглашать их недостатки и погрешности.
– Сору из избы выносить не должно, – заметил кто-то.
– Хороша же будет изба, – возразил Павлов, – если никогда из нее сору не выносить.
* * *
Похороны Ф.П.Уварова (ноябрь 1824-го) были блестящими и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них, от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один благодетель, – сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, – каково-то встретит его другой?» Историческое и портретное слово.
Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету, чтобы довезти его домой. «За что меня так не любят?» – спросил он Орлова. Положение было щекотливым, и ответ казался затруднителен. Наконец Орлов всё свалил на военные поселения, учреждение которых приписывалось Аракчееву и неясно понималось общественным мнением. «А если я могу доказать, – возразил с жаром Аракчеев, – что это не моя мысль, а мысль государя, а я тут только исполнитель?!» «В том-то и дело, каково исполнение», – мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.
* * *
Стрэтфорд (знаменитый Каннинг) приезжал в Россию от имени английского правительства для переговоров по греческим делам. Был он и в Москве на самую Пасху. Гуляя по Подновинскому*, заметил он, что у нас, в противность английским обычаям, полиция везде на виду. «Это нехорошо; некоторые предметы требуют себе оболочки: природа нарочно, кажется, сокрыла от глаз наших течение крови». Посетив же Московский военный госпиталь, удивился он великолепию его и всем
Гулянье у Новинского монастыря на Пасху. – Прим. ред.
удобствам, устроенным для больных. «Если был бы я русским солдатом, – сказал он, – то, кажется, желал бы всегда быть больным».
Каннинг очень уважает Поццо ди Борго и политическую прозорливость его. Он знавал его в Константинополе: в самую пору славы и могущества Наполеона не отчаивался Поццо в низвержении его. Впрочем, и Петр Степанович Валуев, который не был никогда глубокомысленным политиком, как будто носил во чреве своем пророческое убеждение, что Наполеону несдобровать. Вскоре после рождения Римского королька сказал он однажды Алексею Михайловичу Пушкину: