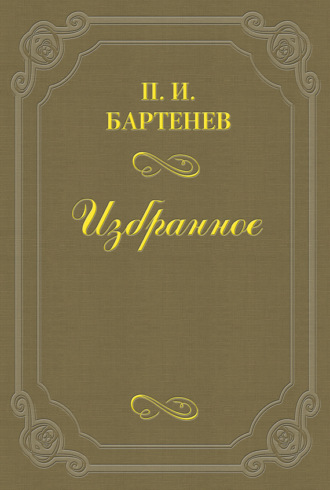
Петр Бартенев
Воспоминания
…и катится путь железный
От Невы и до Кремля.
В Петербург я приехал прямо к Коссовичу, и он дня через два повел меня на Моховую в дом Плеске, во 2-м этаже которого (жила) вторая дочь графа Блудова Лидия Дмитриевна Шевич с тремя сыновьями, из которых мне надлежало обучать Ваню (ныне разбитого параличем члена Государственного Совета) и покойного Митю (бывшего посланником в Японии, а потом послом в Мадриде). Третий брат, Сережа, был тогда еще лет 7-ми. Главное лицо в этом семействе была гувернантка обеих дочерей графа Блудова, девица Каролина Антоновна Дютур, уроженка Нормандии, с детства долго прожившая в Англии, куда ее родители спасались от Французской революции. Это была женщина тонкого ума, но по-моему начал безнравственных, потому что на первых же порах моего пребывания в этом доме она стала рассказывать, что вдова Лидия Дмитриевна страстно влюблена в некоего генерала Раля и что отец граф Блудов отнюдь не позволяет вступать ей в этот брак. Я тогда еще заметил, что на карточках визитных у Лидии Дмитриевны было: рожденная графиня Блудова, тогда как графство было дано ему, когда она была уже замужем за гусарским полковником Шевичем. Я очутился в золотой клетке и имел право уходить без спросу только вечером в субботу и по воскресеньям. Мне отведено было 2 комнаты, но в 3-м этаже, плохо меблированныя, где я мог только по утрам пить чай, все же остальное время, с 7-ми часов утра, проводить внизу. Раз Митя подбегает ко мне перед обедом: «Петр Иванович, чтобы Вам не ходить к себе наверх, не угодно ли умыться у нас?» Оказалось, что они умывались и переодевались к обеду и в 3-й раз делали то же, ложась спать, а про дедушку их, т. е. графа Блудова, я узнал, что он даже вторично брился по вечерам, что мне напоминало моего товарища и приятеля Новикова Николая Николаевича, который, бывало, по утрам выбрившись и намылив себе потом щеки и бороду, оставался так для мягкости кожи в течении некоторого времени, что мы называли: «в мыле пребыть». Граф Блудов со старшею дочерью девицею Антониною жил особо на Итальянской же в доме Бодиско, почти рядом с пассажем. Шевичи туда ездили редко, да и Блудов приезжал к Лидии Дмитриевне только иногда к обеду, а раз приехал произвести экзамен своим внукам. Этот экзамен прошел блестяще. Как удивился старик, когда один из его внуков прочел ему стихи Огарева: «Ночь тиха, на небе тучи…» Он никак не ожидал, что какой-то неизвестный ему Огарев пишет прекрасные стихи. А сам он был великий охотник до стихов и любил читать из Державина, Жуковского, Батюшкова и очень редко Пушкина, так как Пушкина он недолюбливал, потому что Пушкин звал его «тестом», в противоположность Дашкову, прозванному «бронзою». Беседы с графом Блудовым и мои расспросы у него были для меня тем, что Немцы зовут historische Vorstudien[53]. В то время почти ничего не позволялось печатать об Русской истории XVIII века, вследствие ненависти Николая Павловича к памяти Екатерины Великой, внушенной ему его матерью; Блудов же был необыкновенно словоохотлив, и я внимал ему, напояема. На экзамене моих учеников, на который собрались и все учителя их, отворилась дверь из прихожей, и явившийся гоф-фурьер громко произнес: «Государыня Императрица приглашает ваше сиятельство к сегодняшнему обеденному столу». Старик граф встал и, почтительно наклонив голову, сказал: «доложи Ее Императорскому Величеству, что сегодня буду иметь это счастье». Прошли десятилетия; сидел я поутру у князя Семена Михайловича Воронцова, как явился к нему такой же гоф-фурьер с картою, на которой написаны были имена лиц, приглашаемых Государем к обеду и в их числе князь и княгиня Воронцовы; князь не только не встал, но, бросив карточку в сторону, сказал: «Буду». Вот до какой степени поникло значение Царское. Коссович на первых же порах моей Петербургской жизни повез меня к старику живописцу (писавшему стенные священные картины в Исаакиевском соборе) Николаю Аполлоновичу Майкову. Это была маленькая дружная семья, средоточением которой была мать Москвичка, родом Гусятникова. Мне очень там понравилось, но я не мог часто посещать Майковых за неимением времени. Там я познакомился с Гончаровым, довольно гордо себя державшим. Младший сын Леонид, тогда 15-тилетний мальчик, сделался впоследствии мне другом. Он унаследовал свойства своих родителей и не походил на старшего своего брата Аполлона, который был несносен тем, что черезчур охотно читал стихи свои и негодовал, если слушатель недовольно внимательно внимал ему.
Погодин снабдил меня курьезной записочкой (дорожа бумагою, он имел обыкновение писать на клочках, оторванных от полученных им писем) к Соболевскому. Тот жил на Выборгской стороне за церковью Самсония на устроенной им Мальцовской прядильной фабрике. Это был холостяк, истинный друг книг и всякого просвещения, человек трезвого образа мыслей и по душе несравненно лучше, чем он казался. Подобно многим незаконнорожденным людям, он брал наглостью и всякого рода выходками. Любопытно, что в молодости своей писал он нежные идиллические стихи. В то время, когда я узнал его, он не сообщал мне своих метких эпиграмм; позднее, когда он переселился в Москву, я очень с ним сблизился и много от него наслушался. Думаю, что он любил меня и хотя был скупенек, но мне подарил на память, когда я женился, прекрасный цельного красного дерева круглый поставец. В моей памяти и в моих записях сбереглась большая часть его стихов, этих образцов эпиграмматической поэзии. Он был то же, что Марциал в Римской литературе.
Противоположность ему я встретил в Петре Александровиче Плетневе, тогдашнем ректоре Петербургского университета. Я редко пропускал его Субботы, на которые съезжались к нему любители словесности и тихой беседы. Вторая жена его, Александра Васильевна, рожденная княжна Щетинина, была женщина редких душевных свойств. Она что-то вроде поэзии Тютчева: глубина и своеобразное изящество. У них было два сына, и с ними воспитывался мальчик Лакиер, внук Плетнева от первого его брака, сын Ольги Петровны, скончавшейся чуть ли не в самый год свадьбы своего отца и почти ровесницы Александры Васильевны. С Плетневым до конца его жизни я был в беспрестанной переписке. Мы сходились в общей любви не только к Пушкину, но в особенности к Жуковскому. Он заместил Жуковского в занятиях уроками трех Великих Княжен, дочерей Николая Павловича. Александр Николаевич, по своему воцарении, позволил ему приходить к себе по утрам, но он мало этим пользовался. Не раз говорил он мне, что свезет меня к Императрице-Матери, которую называл милою старушкою, но я был до того застенчив и не нарядлив, что отвергал всякую мысль о том. Когда Плетнев болел в Париже, Великая княгиня Мария Николаевна сердобольно и почтительно навещала его. Я же счастлив тем, что вдова Плетнева почти на смертном своем одре позвала меня к себе в спальню, перекрестила, велела себя перекрестить и поцеловала меня. Как мне было радостно, что старший мой сын Ваня случайно встретился со старшим сыном Плетнева Александром, тотчас дружески сошелся с ним, не зная про мою близость с его родителями. Университетские беспорядки, которые приходилось унимать Плетневу, подействовали на его здоровье, хотя студенты любили его. У него образовалась рана под ложечкою и его послали лечиться в Париж, и там Александра Васильевна высасывала гной из его раны. Там он и умер. Тело его привезено в Александро-Невскую лавру, и Государь был на его похоронах. Кто-то уподоблял его старой, обросшей мохом бутылке драгоценного вина.
Когда меня приглашали к Шевичам, было уговорено, что весною 1852 года я поеду с ними и с их матерью в чужие края. Можно судить, как меня взманило это. Но когда наступила весна, второй сын Митя до того избаловался, что Лилия Дмитриевна объявила, что заграничное лечение не пойдет ей впрок, ежели она возьмет с собою Митю, и потому решено было, что он со мною переедет на летние месяцы к родной тетке своей матери, Марии Андреевне Поликарповой (laplus polie des carpes[54], острота Васильчикова), в село Понофидино Старицкаго уезда Тверской губернии. Это решение не особенно меня огорчило, так как я, получив в январе первое мое жалованье, съездил на Апраксин двор и накупил себе много книг к изумлению м-ль Детур и домашней Шевичевской прислуги. Тут я и положил основание моей библиотеке. Две графини, Антонина Дмитриева и приятельница ее графиня Аполина Михайловна Веневитинова, рожденная графиня Вьельгорская, выказали свое участие, а когда я уехал в Понофидино, графиня Антонина вступила со мной в переписку, продолжавшуюся в течение многих и многих лет. Сестра ее Шевич была нрава горделивого, вероятно, в свою бабушку по матери княгиню Антонину Станиславовну Щербатову, рожденную Яровскую, считавшую, что ее дочь княжна Анна Андреевна сделала Mesaliance, склоняясь на долголетние ухаживания чиновника иностранной коллегии Блудова, который хотя был старинного, но ничем особенно не отличавшегося рода. Вероятно, тут действовало то, что Блудов по матери своей, рожденной Татевой, был богат. Старшая его дочь, незабвенная для меня и для всех, знавших ее, графиня Антонина Дмитриевна, не походила на сестру свою и на обоих братьев, которые оба держали себя довольно высокомерно. Она была, при самом широком образовании и уме, отменно сердобольна и пламенно любила Россию, история которой была ей хорошо известна, потому что отец ее был близок к Карамзину, которого называл mein Vaterlicher Freund[55]. Кроме того, графиня была женщина глубокого непоказного благочестия и сознательно исполняла все обряды и обычаи нашей церкви. У нее часто бывали домашние службы, она ездила в Казанский собор молиться за Государя, когда ему предстояло подписать какое-нибудь важное государственное решение. Помню графиню в ее приезды в Москву (где она останавливалась во дворце, в нынешней квартире Степанова), как она, бывало, на коленях молится у Спаса на Бору, близ мощей Стефана Пермскаго, держась рукою за поставленный впереди ее стул. Много позднее, когда Митя Шевич, уже посланником Японским, поехал со мною осматривать Кремлевский дворец, я сказал сопровождавшему нас камер-лакею, что это племянник графини Блудовой; тот отменно воодушевился и стал распространяться в похвалах ей. Она и отец ее расположились в мою пользу и потому, что знали про мою близость к Хомякову, которого стихи и все направление были им сочувственны. Графиня немедленно сблизила меня со своим питомцем Костичем, молодым даровитым Сербом, жившим у них в доме. Графиня мне рассказывала, что однажды она видела сон, в котором покойная мать ее упрекала ее в том, что она проводит дни без всякой цели в жизни. На утро ей докладывают, что внизу просится к ней войти какой-то молодой человек, который привез ей письмо из Вены от ее брата. Этот брат, граф Андрей Дмитриевич, служивший тогда при Венском посольстве, писал ей о передряге, происшедшей в дипломатическом Венском кружке: молодой Серб, приехавший учиться артиллерии в Венское артиллерийское училище, когда его повели на площадь перед училищем для произнесения присяги, во всеуслышание воскликнул: «как стану я присягать царю Швабу!» Его, разумеется, тотчас уволили, и родители решили послать его для продолжения науки в Петербург. Графиня сочла этот неожиданный приезд Костича материнским для себя заветом. Костич определен в Петербургское Артиллерийское училище, но проводил время у Блудовых, т. е. в самом высшем обществе. В довершение очарования, он писал стихи, хотя по-сербски, но довольно приятные русскому слуху. Некоторая его дикость и полная искренность приманили к нему Петербургское аристократическое общество. Когда наступила война, он отличился под Свеаборгом, но, конечно, в богатой обстановке министерского дома скоро избаловался, и года через два графиня насилу от него избавилась: он поехал весною в Сербию и там сошел с ума.
Сочувствие к Славянам, к их освобождению от Турецкого и Австрийского ига занимало все помыслы графини. Говорили даже, что Сербский владетельный князь Михаил Обренович выражал намерение на ней жениться. Я видел у Блудовых и Черногорского владетельного князя Даниила, в лице которого слепая Русская политика дозволила разлучиться духовному и светскому званию: до того времени, в течение столетия Черногорею правили митрополиты из рода Негошей. Я тоже увлекся Славянскими сочувствиями и перевел историю Сербии Немецкого профессора Ранке[56]. К первому изданию этой книги Мамонов сделал рисунки на обертку. Книжка выдержала два издания. Народные Сербские песни (которыми восхищался и Гете) были также мною изучаемы. Разумеется, в Петербургском обществе многие смеялись над графинею, а Соболевский написал:
Я не причастен секте оной,
И в панславическом жару
Перед Болгарскою Мадоной
Я на колени не паду.
Противны синие чулочки
Хотя б и в пожилых летах,
Хотя б на министерсткой дочке,
На камер-фрейлинских ногах.
Весною 1853 года, когда я уже не был при Шевичах, графиня пригласила меня из Москвы в Петербург погостить у нее на Страстной и Святой неделях. Я прожил у них припеваючи. Тогда я им привез еще неизданную предсмертную поэму Жуковского «Агасфер или Вечный Жид», которую в Москве дала мне списать с подлинника поселившаяся на Полянке в доме Поземщикова Елизавета Алексеевна Жуковская. Это удивительное произведение до смерти, оставалось долго потом неизданным, а издатель или вернее сам граф Блудов, исказили его и только в позднейшем уже издании Ефремов[57] восстановил поэму по представленному мною ему моему с подлинника списку.







