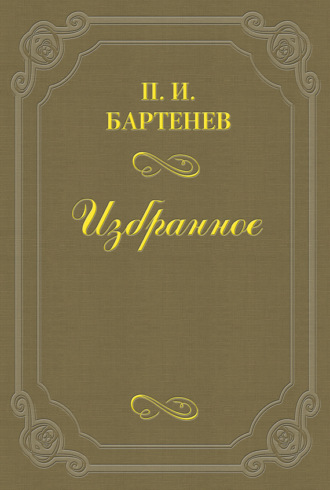
Петр Бартенев
Воспоминания
Но я еще ничего не говорил об университете. С самого первого курса был я счастлив тем, что главным профессором был у нас Степан Петрович Шевырев, великий трудолюбец, идеалист, строго православный и многостороннейше образованный. У него нельзя было перейти с курса на курс, не подав какого-нибудь доказательства о труде дельном. На первом курсе я с Безсоновым составил словарь по всем произведениям древней нашей письменности до Татарского нашествия: все, вышедшие из современного употребления слова писали мы на карточках, таких карточек, расположенных в азбучном порядке, накопилось у нас 17 больших сигаретных ящиков. Все они остались у Безсонова, который-таки был захватчив, и куда у него делись, не ведаю. На втором курсе я подал Шевыреву упомянутую выше статью о «Наль и Дамаянти». На третьем сделал перевод целой книжки Goethes Selbstcharakteristik aus seinen Beiefen[34] (очень было трудно переводить). На четвертом не помню что-то. Шевырев жил в собственном доме в Дегтярном переулке близ Тверской, и от 6 до 7 часов вечера студенты могли приходить к нему для бесед, для советов, для выбора книг из его библиотеки; кроме того, он завел в университете особую студенческую библиотеку. Младший мой товарищ Тихонравов злоупотреблял его добротою: забрал у него в разное время до 100 книг и не отдавал их. Однажды Шевырев говорит мне: «Усовестите Тихонравова, мне самому эти книги нужны». Вслед затем, когда я пришел к Шевыреву: «не трудитесь, – сказал он мне, – я писал о книгах отцу Тихонравова и получил от него ответ, что он удивляется моему к нему обращению, так как уже несколько лет как он проклял своего Николая Саввича». И этот господин впоследствии был ректором университета и под шумок возмущал студентов против правительства. Отец его служил экзекутором в Глазной больнице и был закладчиком. Проигравшиеся члены Английского клуба брали у него деньги за большие проценты. В том числе и граф А. Ф. Ростопчин. По окончании курса Тихонравов списал у Погодина, без его ведома, письма графа Ф. В. Ростопчина к князю Цицианову и поместил их в своей статье о графе Ростопчине в «Отечественных Записках», тогда как письма были даны Погодину только для прочтения. Увидав их в печати, владелец страшно рассердился и печатно заявил о поступке Тихонравова; тогда тот предъявил к взысканию унаследованные им от отца Ростопчинские векселя, и это было началом Ростопчинского разорения. Подали ко взысканию другие заимодавцы, граф продал свои Московские дома и уехал служить в Сибирь в Кяхту, где его единственный сын был воинским начальником, а оттуда поступил на службу в Иркутск исправником. На святки 1849 года Шевырев передает мне и Безсонову по 25 рублей, сказав, что эти деньги даны ему одним желающим остаться в неизвестности человеком для выдачи прилежным студентам (позднее мы узнали, что это был Гоголь). Мы поехали с Безсоновым к Троице, где поставили свечу за землю Русскую, а Шевыреву поднесли перламутровый разрезальный ножик, в котором вместо рукоятки было серебряное сердце. Это соответствовало Шевыреву, который, по нашему мнению, одарен был дорогим сердцем и расчленяющим умом. К несчастью Шевырева он вовлекся в литературную борьбу с так называемыми западниками, необузданно громил их на своих лекциях и терял наше уважение, и тогда К. К. Павлова[35] написала на него стихи:
Преподаватель христианский,
Он духом смел, он сердцем чист,
Не злой философ он Германский
Не беззаконный Гегелист…
Не выносим его смиренью
Лишь только близкого успех[36].
Зимою 1857 года в заседании Исторического Общества у его председателя А. Д. Черткова Шевырев заспорил с графом Бобринским и был жестоко избит им, так что не одну неделю пролежал в постели, и профессора-медики навещали его. Профессор Леонтьев, взойдя на кафедру, сказал студентам: «Поздравляю вас, господа, нашу кликушу побили», вот до чего ожесточилась борьба. Несчастный Шевырев уехал за границу, прожил несколько лет в любимой и столь знакомой ему Италии, затем в Париже, читая лекции на французском языке о Русской словесности, там и скончался в 1864 году. За 10 минут до смерти подозвал он к себе единственную дочь свою Екатерину и продиктовал ей стихи:
Когда состав слабеет, страждет плоть
Средь жизненной и многотрудной битвы,
Не дай мне мой Помощник и Господь
Почувствовать безсилие молитвы!
Вдова с двумя сыновьями и дочерью похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве. Благодарная к нему память никогда меня не покинет.
Русскую историю читал Соловьев Сергей Михайлович без всякого воодушевления и с возмутительною холодностью. Не мудрено: у него было столько других должностей.
Грановского слушал я уже на его закате, и лишь изредка чаровал он нас прелестью своего изложения; при этом он целый год был болен; снисходительнее профессора не было. На одном из экзаменов достался мне билет об Иннокентии III. Я, ни в зуб толкнуть. И что же? Узнаю, что мне поставлено 5. Потом я спросил у Грановского: «Как же это Вы, Тимофей Николаевич, не покарали моего невежества?» – «Ну, вздор, разве я не знаю, что Вы много занимаетесь». Я расскажу потом про сношения с ним уже по выходе моем из университета.
Катков читал редко психологию, логику и историю философии, все три предмета очень смутно и неудобопонятно, притом по целым месяцам он не являлся на кафедре по нездоровью. Это был сухой, бледный, чахоточный человек. Мы думали, что он не проживет долго.
Берлинский товарищ его, вполне ему подчиненный, Павел Михайлович Леонтьев читал нам Римские древности и мифологию. Отменно, отчетливо, ровно и занимательно. Я записывал его лекции о древностях и относил к нему поправлять мои записи; целая большая переплетенная тетрадь их у меня долго сохранялась. Мифологию читал он по Шеллингу, развивая его теорию о трех началах и касаясь отчасти богословия. Лекции были высоко занимательны, и Леонтьев того времени вовсе не имел в себе ничего претительнаго, чем отличался в последние годы своей жизни.
Богословие читал протоиерей Петр Матвеевич Терновский. Как мы смеялись, когда он, разбирая учение энциклопедистов, закончил одну из своих лекций словами: «Следующий раз нанесем мы окончательный удар Вольтеру». Высокого роста, грузный, с неприятным голосом, не вызывал он никакого сочувствия; но потом, когда он оставил университет и поступил священником на Новую Басманную в церковь Петра и Павла, то оказался добросердечным и во всех отношениях почтенным пастырем. Помню экзамен в присутствии Филарета[37]. Мне достался билет о почитании храма Божия, и по счастью я незадолго перед тем читал проповедь о том самого Филарета. Стоявший у стола Терновский кидал на меня строгие взоры, так как я отвечал вовсе не по его учебнику, а по Филаретовской проповеди. Владыко милостиво мне улыбался, и Терновский вынужден был поставить мне 5.
В это время я много читал Филарета и вообще был благочестив, может быть потому, что дома у нас было плохо, нечего было посылать мне, и я перебивался кое-как. Помню, как после заутрени у Егория на Лубянской площади христосовался я с каждым из нищих и раздавал им по копеечке из тощаго моего кошелька.
Мне еще надо кое-что напомнить о моих профессорах. О бедном Шевыреве немногие знают, что он первый дал Бобринскому пощечину. Приехал он на заседание усталый от дневной работы, а Бобринский появился после жирного обеда. Глухой председатель Чертков не мог предотвратить сцены, которая началась с того, что Бобринский стал говорить о том, что нам нечего послать на Парижскую Всемирную выставку, кроме сеченой задницы Русского мужика. «Граф, Вы говорите не по-русски». Тогда Бобринский пододвинулся к нему и назвал низкопоклонником, заполучившим себе в жены незаконную племянницу генерал-губернатора. «А ты сам-то кто такой? Ведь твой отец незаконнорожденный» и с этими словами нанес ему удар по щеке. Тогда высокорослый силач повалил тщедушного профессора и стал топтать его ногами. Из Петербурга приказано было выслать Бобринского из Москвы и Шевырева также по выздоровлении его. Это последнее приказание было отменено по заступничеству фрейлины Анны Алексеевны Акуловой (воспитательницы королевы Ольги), а Бобринский через несколько месяцев был утвержден предводителем Тульского дворянства.
О Грановском добавлю, что он не подавал студентам примера трудолюбия и, можно сказать, первый из профессоров стал искателем милости студентов. Шевырев говорил нам «ты» до окончания курса, а Грановский всем жаловался. Помню, был я у него, когда он жил в Хлебном переулке в доме Забелина. Он мне и другим студентам стал рассказывать, будто Филарет добивается, чтобы его сделали министром Народного Просвещения на место графа Уварова, с которым тогда сделался паралич и про которого он мне рассказывал потом, что тот называл свое министерское служение постоянным убеганием от лютого зверя, т. е. от Николая Павловича. Меня же лично Грановский оскорбил, назвавши Жуковского придворным льстецом; я же любил стихи Жуковского с первых классов гимназии и довольно дерзко возражал Грановскому, а ходить к нему перестал. Прибавлю, что позднее, когда Анненков[38], купивший у наследников Пушкина за 5 тысяч рублей право издать его сочинения, уверил их, что только ему удастся при этом избежать преследований цензуры, так как родной брат его был членом негласного цензурного комитета, я пошел к Грановскому и передал ему, что в Московском цензурном комитете получена была бумага, воспрещавшая мне печатать в «Московских Ведомостях» мои статьи о Пушкине, так как оглашением неизданных стихов могу повредить успеху издания Анненкова. Между тем другой брат Анненкова был в Нижнем губернатором и на ярмарке 1855 года приказывал полиции выдавать приезжим купцам билеты на получение сочинений Пушкина, взимая с каждого по 12 рублей (это мне сказывал В. И. Даль[39], служивший тогда в Нижнем начальником Удельной палаты). Грановский, возмущенный воспрещением мне печатать, написал Анненкову укорительное письмо. Надо знать, что перед тем я послал в Петербург в «Отечественные Записки» мою статью о «Роде и детстве Пушкина»[40], вовсе не думая о вознаграждении, как через несколько времени статья появилась; Грановский зовет меня к себе и вручает полученные им для меня от издателя «Отечественных Записок» Краевского 45 рублей. Это был первый мой заработок за мои печатные труды[41]. Однажды Грановский говорит мне: «Я знаю, что Вы даете уроки; что Вам за охота; возьмитесь лучше за переводы. Приятель мой Фролов (Николай Григорьевич), переводчик Гумбольтова Космоса, затеял издавать „Магазин Землеведения и Путешествий“, ступайте к нему от моего имени». Фролов жил тогда в собственном доме в Харитоньевском переулке, во флигеле которого отвел помещение Грановскому и супруге его Елизавете Богдановне (рожденной Мюльгаузен). Фролов немедленно навалил на меня переводы из Риттера с весьма скудною платой по 6 рублей с листа убористой печати. Я перевел ему историю распространения кофе, верблюда, янтаря и еще что-то; затем он поручил мне переводить статьи академического издания Бера и Гельмерса Beiträge zur [Gescichte] des Russischen Reiches[42]. Этого было для меня много и я, желая сделать угодное А. П. Елагиной[43], отдал ей часть для перевода. Некогда, в дни своей молодости, по поручению Жуковского, она много переводила с иностранных языков для Московских книгопродавцев и ей приятно было в старость заняться тою же работою. Но, превосходно владея языками, она не умела быть точною, а перевод ее сдавал я Фролову заодно с моими, и оказалась нескладица.
Грановский в последние годы своей жизни (умер 4 октября 1855 года) стал заниматься Новою Русскою историею. Он говорил мне: «Вот, бывало, мы смеялись над Бантышем-Каменским[44], а теперь я поневоле прибегаю к его словарю достопамятных людей Русской земли». Грановский же дал мне прочитать отрывок из строго запрещенных в то время Записок Екатерины (про арест канцлера Бестужева-Рюмина). Записки эти он, вероятно, получил от Анны Михайловны Раевской, воспитанием двух сыновей которой он заведывал. Перед тем в его заведывании было и обучение Васи Солдатенкова, на днях скончавшегося (февраль 1910 года) в Канне. Гувернером к этому Васе поставил я через Грановского некоего Рейсмана и от него узнал, что сначала Грановский ездил к Солдатенкову по средам, потом заставлял по средам Васю приезжать к себе, а затем все небрежнее относился к этому делу, за которое, однако, получал 3000 рублей в год, и эти деньги и жалованье оставались в Купеческом клубе, где его заведомо обыгрывали. В последний день его жизни Закревский вызвал его к себе и объявил, что двух шулеров, которые его обыгрывали, выслал он из Москвы. Грановский выслушал наставление от старого генерала, уважавшего науку, но вполне безграмотного. Утром 4-го октября случайно узнал я о смерти Грановского. Оказалось, что, встав с постели, он стал натягивать сапоги, повалился навзничь, и дух вон. Я застал его только что положенного на стол. Многолюдные похороны его были в университетской церкви. Кетчер[45] распустил слухи, будто Закревский запретил класть венки в гроб покойника, между тем я положительно знаю, что через несколько дней Закревский поехал к его вдове выразить соболезнование. Грановского похоронили на Пятницком кладбище недалеко от могилы знаменитой Екатерины Филипповны Татариновой. Через несколько лет могила Грановского очутилась в некотором запущении, а на могилу Татариновой кто-то еще продолжал класть цветы. Забыл сказать, что когда Грановский читал свои четыре публичные лекции (о Тамерлане, Александре Македонском, Беконе и еще о ком-то, не помню), мне удалось записать за ним лекцию о Тамерлане, не пропустив ни одного слова; переписав, я отнес ее к нему и узнал от него, что он никогда не писал своих лекций, а долго про себя обдумывал их. На слушателей действовал он не столько содержанием своего чтения, как самим произношением и своею художественною личностью. Хомяков правду сказал про него, что у него одна судьба с гениальными актерами: действие минутное, но неизгладимое. Изданные Станкевичем его письма к сестрам и друзьям заставляют всякого читателя полюбить этого чудесного человека, легкомысленного, но обаятельного. Катков напечатал в своих «Московских Ведомостях» прекрасный некролог о Грановском.







