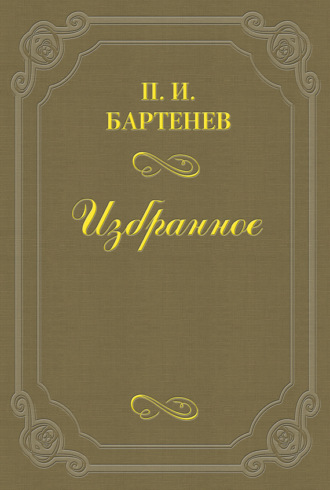
Петр Бартенев
Воспоминания
Состояние наше было избыточное и без всяких долгов, напротив, с возможностью помогать соседям, а в городе бедным людям. Благосостоянию содействовала и жившая с нами незамужняя тетка моя Надежда Петровна, бережливая до скупости и в то же время по 10 коп. с получаемого рубля отчислявшая для бедных.
Брата моего Михаила (на три года меня старше), любимца отца и матери, поручили некоему Николаю Ивановичу Арендаренке (позднее Архангельскому губернатору) отвезти в Петербург в Кадетский 2-й корпус, где он и оставался до самого 1849 года, так что мое детство прошло врозь с ним, но я любил его чрезмерно. В следующем 1837 году началось наше разорение с выходом в замужество старшей сестры моей Аполлинарии за Платона Александровича Барсукова, великого мастера «понырять в домы и уловлять жены»; мелким угодничеством умел он обворожить свою тещу и ее сестру (т. е. Надежду Петровну), и хоть у отца его было свое хорошее имение в Меринковском уезде Владимирской губернии, но он предпочел остаться на наших хлебах до самого 1846 года, постепенно разоряя наше благосостояние и тайком совершивши купчую на свое имя, когда маменька в приданое его жене и своей любимице купила сельцо Алексеевку.
Затем брат Михаил Иванович, определившись в кирасиры и сделавшись ремонтером, потребовал себе 5000 руб., а через несколько времени написал, что пустит себе пулю в лоб, если не пришлют ему еще 5000 р. Помню слезы матери и сестры моей Сарры; тогда спасла нас, дав взаймы, соседка по деревни Погенпола. Сестра моя производила часто детей и в то же время предавалась всякого рода излишествами и роскоши. Кончила она страшно. Утром 11 июня 1844 года за чаем сестра Сарра говорит: «какой ужасный сон я видела: тебя, Полина, везут по улице с оторванной головою». В это же утро Полина в фаэтоне парном поехала вниз покупать какие-то наряды. Не доезжая туда, дышло сломалось, лошади стали бить, выбросили сестру мою и потом по ней проезжались, пока их не распрягли; голова ее, действительно, висела на туловище. Из четырех сыновей ее младшему было не более 2-х лет, они оставались и с отцом у нас, пока их папаша не нашел себе новое место праздной и разоряющей жизни. Его женила на себе перезрелая Варвара Герасимовна Каратеева. Платоха взял детей в ее дом и начал торговать ими, т. е. привозил к бабушке за известное вознаграждение. Бабушка же души в них не чаяла. Старшего, Николая, отдали в Воронежский Кадетский Корпус, второй поступил в Тверь в юнкерское училище, Иван же в какую-то Петербургскую гимназию, а самый младший, Михаил, в Морской Корпус, откуда он перешел в таможенное ведомство. Приезжать домой они не смели иначе, как с подарками; а когда Михаил в течение нескольких месяцев ничем не отзывался, отец написал к его начальнику письмо с просьбой доставить ему пожитки сына, так как он, конечно, уже умер. К великой чести его сыновей надо сказать, что никто из них и никогда не роптал и они свято несли свой крест, оказывая отцу наружное почтение, хотя в доме мачехи получали побои от ее матери Глафиры Ивановны (рожденной Сальковой).
В конце концов мы так обедняли, что иной раз не на что было купить чаю и сахару. За меня в Рязань и за сестру Катю в Тамбовский институт платила благодетельная тетушка Надежда Петровна, но каково было выпрашивать у нее, скупой и скопидомливой. Иногда она невзначай положит деньги на умывальный столик матери моей.
Прежде чем говорить о Рязанском пансионе, расскажу про нашу жизнь. Дом в Липецке, построенный моим дедом и где он скончался в 1826 году, не пережив на год бабушку, был довольно тесен, так что сестра Полина с мужем не имели особого помещения, и постели для них ежедневно готовили на полу в гостиной. Я спал на диванчике в маменькиной спальне очень близко от ее большой кровати с высокими пуховиками (в изголовьи стояло судно и это не возбуждало ни малейшего ни в ком неудовольствия). Тем не менее у нее в спальной комнате было чрезвычайно чисто. По утрам ежедневно носили разожженный до красна кирпич и поливали его уксусом или квасом, а лежавшая на нем мята или чебер разливали благоухание. Деревянный некрашенный пол мыли чуть ли не по два раза в неделю; форточек не было; окна на ночь закрывались ставнями снаружи и во всех комнатах было очень тепло. Маменька вставала несколько позднее всех, и мы дожидались ее появления из спальни в узенькую комнату, где ждал ее самовар и две кастрюли со сливками, одна с пенками, а другая для младших членов семьи пожиже. Тетенька приходила туда, когда уже все напились чаю и обыкновенно сливала оставшийся чай в бутылку, и это поступало в большие уксусные бутыли, куда добавляли еще остатки от варенья; помню большие уксусные гнезда в этих бутылях, стоявших в столовой. После чая маменька читала одну главу из Евангелия, которое потом я нес тетеньке в ее маленькую комнату; она читала по три главы и я иногда прислушивался. После чаю же отдавались приказания по кухне, выдавалась мука или пшено из стоявшего в чайной комнате большого с ящиками шкапа. Тут приходила Евдокимовна, необыкновенно милая и чистоплотная старушка, обыкновенно сидевшая в теплых сенях на донце и прявшая пряжу. Большую же девичью занимали две или три горничные кружевницы, мои приятельницы, которым не воспрещалось петь песни. Милая Феклуша сидела на лавке у окна подле погреба, где хранились банки с вареньем, моченые и в банках запасенные яблоки (которых иногда доставало до самого Петрова дня будущего года) и мед, разлитый в бутылки. Его давали нам изредка. К числу горничных принадлежала также ходившая за мною по кончине старой моей няни Марии Васильевны (как я плакал об ней! Она умерла, когда я уже был в пансионе) всегда веселая, говорившая пословицами либо двустишьями из разрезанного на конфектных бумажках Евгения Онегина, Маргарита. Бывало, за ужином я откладывал для нее кусочки жаркого или пирожного. Муж ее бежал, и она певала: «Я ни девка, я ни баба, ни солдатская жена». В передней у нас Никита, точа сапоги или приготовляя сеть для ловли рыбы, тоже распевал что-то, но и ему за какую-нибудь провинность доставались пощечины от моей матери, равно как и горничным, когда у них на плетевых подушках оказывалось мало сработано коклюшками. Помню, как горничные обедали: из одной чаши одной и той же ложкою и притом не иначе, как стоя, ели они приносимое им из кухни нашей. Была еще другая кухня в особом здании над погребами. Там жили люди тетенькины, старик повар Трофим с женою и двумя дочерьми, из которых одна, Евгеша, была за помянутым выше Николаем, а другая, хохотунья, была горничной у тетеньки, для которой почти ежедневно готовилось особое кушанье. Трофим славился приготовлением ботвиньи из вареного квасу. Николай ежедневно в 4 часа являлся за стаканом нашей чудесной воды из живоносного источника для тетеньки, которая в это время переходила в гостиную и усаживалась у окошка со своим ридикюлем, где лежали ее табакерка и медные деньги для подачи нищим. Кроме того, она вязала, и притом на трех спицах, носки и выручаемые на них деньги шли тоже нищим. Она очень любила читать, а писать научилась сама, выводя буквы мелом на деревянных скамеечках, которые ставились около покойной бабушки. Была она строгая постница, не кушала вовсе пять пятниц в году, но в среды и пятницы (только не Великим постом) кушала рыбу. Мастерица она была приготовлять кашу и бывало за обедом, сидя по правую сторону моей матери, подавала ей этой каши или другого какого блюда, говоря: «Откушай, сестрица». Ее любовь к матери была даже стеснительна. Она не отпускала ее из Липецка в деревню иначе, как после долгих просьб, а когда решалась ехать с ней, то в 4-х местную карету впрягались шесть крестьянских лошадей, приводимых с Высокого Поля, доставшегося на ее долю дедушкиного имения, которое в народе слывет под названием «Бурцево» (это уже Усманского уезда, верстах в 25-ти от Королевщины). То-то была наша с сестрою Катенькою радость, когда мы перебирались в деревню, хотя там помещение было теснее городского, и мне доставалось спать на сундуке с маменькиным платьем подле самой печки и рядом с фортепьяно, на котором играла сестра Сарра Ивановна мои любимые: «Польский» Огинского, «Кадриль» Гудовича, вальс Пестеля. Сестру учил некто чей-то крепостной Артамон Иванович, но она сама много занималась, и ее игра была не совсем правильная, но всегда выразительная и задушевная. В этой довольно большой комнате с цветными кафелями узорчатой печи в переднем углу стоял простой деревянный крашеный стол, место моих занятий, которым я предавался с усердием, вызываемым, может быть, самою хромотою моею. Я охотник бывал и до женских рукоделий; бывало, я в одно и то же время читаю книгу и разматываю мотки пряжи. В деревне приходила ко мне моя кормилица Дарья и всякий раз приносила в горшке очень жирных пшеничных блинчиков, а я ее одаривал конфектами. Мне шел 10-й год, когда всему нашему семейству пришлось на много месяцев переселиться в Королевщину: в мае 1839 года Липецкий дом наш сгорел до тла, равно как и дом через улицу тетушки Ольги Петровны Зейдель. Плотник Рязанец построил нам на том же самом месте прекрасный деревянный же дом много больше прежнего, с так называемым мезонином, где поселилась сестра Полина с детьми. Зейдели же выстроили себе дом каменный и тоже весьма просторный, хотя для них это не было особенно нужно, так как у них осталось с ними жить глухонемому сыну Николаю и дочери Софии Николаевне, которая много лет позднее вышла замуж за вдовца Липецкого казначея Петра Абакумовича Трунцевского. Красота матери и отца достались не ей, а старшей сестре Анне Николаевне, которая против воли родителей бежала и вышла замуж за Авксентьева и большую часть жизни прожила в Малороссии. Брат их, Саша, тоже был хорош собою. Даровитый 16-ти летний мальчик, утонул он в Кузовке, не в силах справиться с набежавшею вследствие прорыва мельничной плотины волною. Это страшное горе произошло в том же 1839 году.
Наши обе семьи жили, как одна. Даже кушанья иногда пересылались через улицу из одного дома в другой. Тетушка Ольга Петровна вставала рано, а я бегал к ней пить ее чудесный кофе. Она была простовата умом, но необыкновенно доброго сердца и давала полную волю своему непутевому супругу, сыну Шадринского аптекаря Францу Ивановичу Зейделю. Он служил в войсках и после 12-го года получил должность Липецкого городничего. Отец мой звал его «Хранц Косорылый» (они были совершенно разных нравов). Он принял православие и стал называться Николаем Ивановичем. Лично мне он никогда не делал ничего худого, звал я его дяденькою, но доверия ему никогда не оказывал. Глухонемого двоюродного братца мы любили за его добродушие.
За два года до пожара 4-го февраля произошла свадьба сестры Полины. В гостиной круглый стол весь был уставлен сластями, и мне сшили красный кафтанчик, а я обрывал искусственные цветы с этого стола и подкушивал сластей. Платоха сделался хозяином в нашем доме и кроме водки перед обедом повадился еще к рюмочке раньше, и тетенька подливала чаю в графин с водкой, и из экономии, и к обузданию бездельника. Обедывали мы всегда в 12 часов; стол накрывал Прокофий, а за столом служили Иван Горячий, да у тетеньки ее Николай. В деревне еще кто-то обмахивал павлиньими перьями нашу трапезу. По субботам маменька обыкновенно осматривала всю нашу обширную усадьбу, начиная с кухни и людской, бани, большого погреба, ветчинной, кладовой, конюшни и сарая; в виде милости позволялось мне сопровождать ее. Каждый месяц служилась у нас всенощная и кропились святой водой все комнаты. В церковь же маменька езжала редко и всякий раз торжественно в карете с ферейтером, т. е. в четыре лошади. Меня посылала она ставить свечки, а по окончании службы ходили мы прикладываться к образам. Соборный священник отец Андрей был благообразный старец, дочь его была за богатым купцом Хренниковым. Второй священник, толстый и высокого роста Филипп, запивал, но был человек задушевного благочестия. Среднего между ними нрава был третий священник, отец Стефан, у которого мы числились в пастве.
С мая 1839 года, пока строился дом, нашим прибежищем в Липецке был на Дворянской же улице дом двоюродной моей сестры, вдовы моего крестного отца Павла Павловича Шишкина, бездетной и очень умной Анны Васильевны. Она вызвала к себе своего племянника, мне сверстника, Николая Федоровича Змиева. Я переехал к ней из деревни, и начали мы учиться под руководством штат смотрителя Ивана Григорьевича Чарницкого. Он некогда был надзирателем в Москве в Университетском Благородном Пансионе. За его благочестие женила его на себе некая Хрущова. У Анны Васильевны кормились мы плохо, но старушка Евдокимовна, жившая у нас на пожарище с коровою, бывало, принашивала нам молока и простокваши. В марте 1841 года из Королевщины Маслов повез меня и Змиева в Рязань. Матушка написала письмо директору с уверенностью, что меня примут в 3-й класс; оказалось, что я не готов даже в 1-й. Меня приняли в приготовительный, и мне памятно, сколько слез пролил я над 3-м склонением Латинского языка.
Там пробыл я до конца июня месяца 1847 года, уезжая на лето, а иногда и к Рождеству домой. В пансионе же никто решительно меня не навещал в эти годы моего школьничества. Хотя кормили нас хорошо, но я был одним из наиболее бедных учеников, так как мне давали всего по 5 рублей ассигнациями на год. «Посылаю тебе на твои депансы столько-то рублей». Бывало, пошлю старика сторожа купить мне так называемых рожков или мятных пряников, уйду в какую-нибудь из пустых классных комнат и благодушествую за книгой и этим лакомством, особливо когда удавалось достать какую-нибудь не учебную книгу: не только романы, но и сочинения лучших писателей не позволялось нам читать. Мы вставали, кроме дней праздничных, всегда без четверти 5 часов; в четверть часа умывались из огромного умывальника, куда входило не одно ведро воды, и к 5-ти часам были уже в огромной комнате с хорами на молитве, которую читали поочередно. Было нас человек 100, и готовили мы уроки до 7-ми часов в соседней, тоже огромной комнате. В 7 часов вся наша ватага спускалась вниз в большую столовую к стакану чая с большою булкою. С 9-ти часов начинались классы, а к часу все выстраивались, и главный надзиратель Карл Иванович Босс осматривал нас; если у кого-то запачканы руки, тот получал по ним удар и выгонялся мыть их. Обед из 3-х блюд был всегда сытный, и на нашего эконома Николая Ивановича Эдельсона, коего два сына, Аполлон и Аркаша, учились вместе с нами, жаловаться нельзя. Кушанья за все шесть лет были назначены по дням одни и те же, так что во всякий вторник, например, давали нам говядину с хреном, а во всякий четверг – большие пирожки с луком, нами очень любимые до того, что охотники покушать выменивали их на листы казенной бумаги или карандаши, а надзиратели наказывали: «в четверг без пирожка». От 2-х до 4-х опять классы, затем после чаю, уже без хлеба, садились до 8-ми часов готовить уроки, в 8 ужин, а в 9 часов уже все спало. Наша главная спальня (их было несколько) выходила окнами в обширный общественный сад, где бывало гульбище и раздавалась музыка. У нас с противоположного конца был свой небольшой сад и прекрасный двор, где ученики играли в лапту. Внизу этого обширного здания была квартира инспектора гимназии Карла Карловича Шиллинга, а потом, когда он сделался директором, то его преемника Ефима Егоровича Егорова – математика, а также жил эконом и кто-то из надзирателей. Главный же надзиратель Карл Иванович Босс помещался в небольших антресолях, и к нему вела высокая лестница. Не помню, когда бы опоздал он с большим поддужным колокольчиком, которым будил он, бегал по спальням, где по ночам дежурили другие надзиратели. Ежели кто к 5 часам не являлся на молитву, то значило, что он болен и должен идти в больницу, чего весьма не хотелось, так как там еда была скудная. С благодарностью вспоминаю больничного надзирателя Кригера. Это был Гернгутер[5], распевавший псалмы Давидовы. Он заохотил меня к чтению Лютеранской библии, о чем узнал директор и, хотя сам был Лютеранин, но библию у меня отнял. Больница помещалась в высоких комнатах 2-го этажа. Все это прекрасное здание выстроено было для себя откупщиком Гаврилою Рюминым и пожертвовано в казну. Сын его тоже откупщик, но уже действительный статский советник Николай Гаврилович, был попечителем нашей гимназии и раза 2–3 в год привозил нам в пансион по одному пуду конфет. Другим баловником был тот же К. И. Босс, с виду строгий, но живой и добросердечный старичок, некогда бывший памповщиком в Москве, но умевший рисовать. Он был большой охотник до лягушек, которых мы ловили ему на пригородной Рюминской даче; он приготовлял из них колбасы очень вкусные, сберегавшиеся у него даже до января месяца, когда, в день своих именин, он угощал нас ими, прибавляя и конфеты. Много позднее, когда один из моих товарищей, Российский, поступил в военную службу, Босс явился к нему с кулечком снедей и бутылкою вина и подал ему это на площади, с которой уходил из Рязани полк, куда поступил Российский. Босс, человек одинокий, был скопидом, и говорили, что давал деньги взаймы нашему директору Николаю Николаевичу Семенову, жившему в отдельном деревянном доме. Это был человек добрый, но почти не принимавший участия в управлении гимназией. Ходил слух, что Николай Павлович, проезжая через Рязань, увидел в числе представлявшихся ему Семенова и громко сказал: «Беда есаул во пророцех». Семенов вскоре перешел на службу в Министерство Внутренних Дел и сделался Вятским губернатором. Его описал в одном из своих «Губернских очерков» Щедрин-Салтыков.







