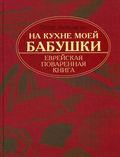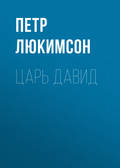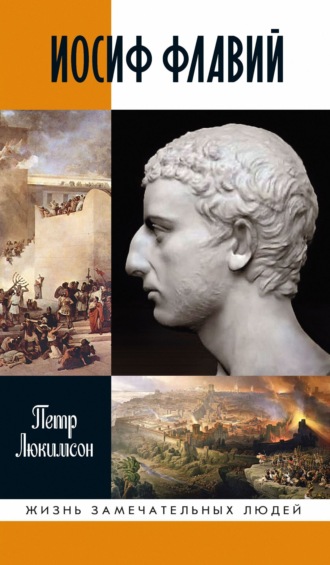
Петр Ефимович Люкимсон
Иосиф Флавий: История про историка
* * *
Вне сомнения, Рим не мог не произвести неизгладимого впечатления на Иосифа своей имперской мощью.
Обилие грандиозных языческих храмов, высоких, иногда в семь-восемь этажей доходных домов, термы, дворцы, виллы – все это невольно должно было поразить его воображение. Если в его родном Иерусалиме население составляло порядка ста тысяч человек, а в Александрии – трехсот тысяч, то в Риме жило свыше шестисот тысяч.
Не мог не поразить его и отстроенный после пожара «Золотой дом» Нерона, представлявший собой утопавший в золоте и драгоценных камнях дворцово-парковый ансамбль общей площадью до 120 гектаров. В этом дворце, посреди которого высилась 30-метровая статуя императора, его и принимала Поппея, а возможно, и сам Нерон.
Но сам языческий дух Рима был Иосифу глубоко чужд. Он не только избегал соблазна попробовать запретную для евреев пищу, но и не ходил на гладиаторские бои и прочие языческие игрища в цирк, и – так и не приобщился к римскому театру.
Что же, в таком случае, заставило его задержаться в Риме на целых три года; даже после того, как он исполнил свою миссию? Ответ прост: все это время Иосиф не только завязывал новые знакомства и наращивал связи с влиятельными лицами как внутри еврейской общины, так и в римских кулуарах власти, но и напряженно учился. Очевидно, в Риме он не только усовершенствовал свой греческий и овладел латынью, но и по-настоящему глубоко познакомился с греческой и римской литературой, что очень пригодится ему в будущем.
Одновременно он наблюдал за повседневной жизнью римлян, стремился проникнуть в их психологию. Позже он утверждал, что также познакомился в Риме с системой армейской тренировки и техникой ведения войны римской армией. Но это уже звучит несерьезно: нет никаких сведений, что Иосиф в дни пребывания в Риме ездил по тренировочным лагерям легионов. А значит максимум, что он мог видеть, – это марширующих по городу в полном облачении преторианцев или парад, в котором участвовал один из прибывших в город легионов.
Тем не менее в 66 году на родину возвращался другой Иосиф – обладающий куда большими знаниями и жизненным опытом, узнавший, что такое мощь Рима, и понявший, чем может обернуться для его народа столкновение с этой мощью.
Он знал из писем отца, что в Иудее дела обстоят из рук вон плохо. Но он и представить не мог, насколько плохо…
Глава 5
Возвращение на родину, в страну незнакомую
Нет никаких сомнений, что Иосиф вернулся домой не позднее конца июня – начала июля 66 года. Вернись он чуть позже – и после того, как он ступил на землю Кейсарии, был бы просто растерзан толпой местных греков, как, впрочем, и любой другой еврей. Столкновение с ними было неизбежно, и даже если бы он каким-то чудом остался в живых, то непременно хотя бы несколькими фразами рассказал бы об этой переделке в «Жизнеописании», как рассказал о кораблекрушении, которое то ли было, то ли не было. Но нет – все прошло мирно, и, оказавшись под отчим кровом в Иерусалиме, он с жадностью слушал рассказы отца и его друзей о том, что произошло за годы его отсутствия.
Выходило, что он был большим оптимистом, когда, уезжая, думал, что хуже Альбина прокуратора быть не может. Еще как может! Сменивший Альбина Гессий Флор, на которого Иосиф возлагает главную ответственность за начало Иудейского восстания, оказался настоящим чудовищем.
Грек из Клазомеи, обладавший римским гражданством, Флор получил место прокуратора благодаря тому, что его жена Клеопатра была одной из многих подруг жены Нерона Поппеи.
Историки далеки от того, чтобы однозначно присоединиться к обвинениям Иосифа. Причины восстания, по их мнению, были слишком глубоки и многообразны, чтобы сваливать всю ответственность на одну конкретную личность. Но и они сходятся во мнении, что Флор, не раз сталкивавшийся с евреями в Малой Азии, был, вероятнее всего, патологическим антисемитом. Если другие прокураторы в отношении евреев придерживались как интересов Рима, так и личных интересов, то у Гессия Флора к этому примешивалась еще и личная ненависть.
Он терпеть не мог тот народ, которым был поставлен управлять, и не только не намеревался идти на какие-то послабления, но, напротив, хотел преподать ему «хороший урок». По словам Иосифа, он «вел себя так, как будто его прислали в качестве палача для казни осужденных. В своей жестокости он был беспощаден, в своей наглости – без стыда» (ИД, 2:14:2).
Флор не просто резко повысил налоги, причем не только в пользу Рима, но и в свою собственную, но и довел коррупцию до абсурдных масштабов, даже не стесняясь своего постоянного требования все новых взяток. Вместо того чтобы бороться с разбоем и преступностью, ставшими в стране рутиной, он попросту развязал руки разбойникам, обусловив свое бездействие тем, что они будут отдавать ему определенную долю от добычи.
«Обогащаться за счет единичных лиц, – пишет Иосиф, – ему казалось чересчур ничтожным; целые города он разграбил, целые общины он разорил до основания, и немного недоставало для того, чтобы он провозгласил во всей стране: каждый может грабить, где ему угодно, с тем только условием, чтобы вместе с ним делить добычу. Целые округа обезлюдели вследствие его алчности; многие покидали свои родовые жилища и бежали в чужие провинции» (ИВ, 2:14:2).
Иерусалимская знать, понимая, что дальше так жить невозможно, склонялась к тому, чтобы послать делегацию с жалобой на Флора в Рим, к императору, или хотя бы в Антиохию, к губернатору Сирии Цестию Галлу, но одновременно сознавала всю опасность этого предприятия. Флору не составляло труда перехватить послов, и тогда бы все они кончили жизнь на кресте.
Было решено дожидаться, когда Галл сам посетит Иудею. И когда он по сложившейся традиции прибыл в сопровождении Флора в Иерусалим накануне Песаха, губернатора окружила огромная толпа, молившая сжалиться над евреями и освободить их от злодея-прокуратора.
Надо отдать должное Цестию – он выслушал многих жалобщиков и пообещал во всем разобраться и убедить прокуратора быть более справедливым к подданным, несмотря на то, что стоявший рядом Флор сопровождал каждую жалобу язвительными замечаниями.
По предположению Иосифа, Флор, проводивший, как это и предписывалось, высокого гостя до Кейсарии, во-первых, пришел в бешенство от того, что евреи посмели на него пожаловаться, а во-вторых, с тревогой думал о том, какое письмо о своем посещении Иерусалима Цестий Галл отправит вРим, – он видел, что жалобы населения показались губернатору небезосновательными. Конечно, Флор мог рассчитывать на заступничество Поппеи, но в данном случае все осложнялось ее известными симпатиями к евреям. Именно тогда, считает Иосиф, прокуратор пришел к выводу, что следует действовать по принципу «чем хуже, тем лучше» – с тем чтобы довести евреев до отчаяния, заставить их поднять мятеж, и тогда «он мог надеяться большим злом отвлечь их (императора и его окружение. – П.Л.) от разоблачения меньшего» (ИВ, 2:14:3).
Предлога для нового витка эскалации Флору пришлось ждать недолго. В мае, то есть спустя несколько недель после Песаха, жившие в Кейсарии греки привезли в ответ на свое ходатайство полученный подкупом указ Нерона о том, что город следует считать греческим, а следовательно, и интересы греческого населения должны в нем превалировать над интересами еврейского. В «Иудейской войне» Фейхтвангер для остроты сюжета предположил, что указ был привезен на том самом корабле, на котором Иосиф возвращался из Рима, а издан был в качестве своеобразной компенсации грекам за освобождение группы священнослужителей-коэнов, которого добился сын Маттитьягу. Так это или нет, утверждать невозможно, но два этих события действительно произошли либо одновременно, либо с разницей в одну-две недели.
Вскоре после этого указа в Кейсарии обострился давний спор между местными греками и евреями вокруг синагоги, построенной на земле, которая принадлежала одному из местных греческих фабрикантов – владельцу нескольких ремесленных мастерских. Каким образом это получилось, сегодня уже выяснить нельзя, но евреи не отрицали права фабриканта на этот земельный участок и не раз выражали готовность выкупить его за сумму, многократно превышающую его реальную стоимость. Однако грек пошел на принцип и не только не продал землю, но и начал застраивать ее новыми мастерскими, оставив к синагоге лишь крайне узкий проход.
Горячие еврейские юнцы стали ломать постройки. Дело запахло их арестом со всеми вытекающими последствиями, и тогда лидеры еврейской общины Кейсарии решили разрешить конфликт с помощью взятки: они обратились к Флору, и тот ясно дал понять, что в обмен на взятку прикажет хозяину мастерских расширить проход к синагоге и уладить конфликт с соседями. Евреи, недолго думая, вручили прокуратору 8 талантов золотом – поистине астрономическую сумму (один талант составлял в тогдашних мерах веса у евреев 34, 272 килограмма[28], а у римлян – 26 027 килограмма.
При этом они не озаботились даже получением от Флора хоть какого-то письменного документа, а тот после получения взятки уехал из Кейсарии в Себастию, предоставив событиям развиваться своим ходом.
На следующий день, в субботу, когда евреи явились на молитву, один из греков поставил у входа в синагогу перевернутый вверх дном горшок и на нем демонстративно зарезал птицу – намекая таким образом на то, что все евреи – прокаженные и им было бы неплохо принести в жертву птицу, как их Тора предписывает прокаженному, исцелившемуся от своей болезни. На месте вспыхнули жестокие драки между евреями и греками, причем каждая из сторон стала хватать в качестве оружия все, что попадалось под руку. Начальник городской конной стражи Юкунд попытался было навести порядок, но воодушевленные указом Нерона греки отказались ему повиноваться. Евреи, прихватив свитки Торы, в страхе бежали из города, а затем тринадцать лидеров общины Кейсарии направились в Себастию к Флору, чтобы просить его заступничества. При этом они осторожно намекнули, что рассчитывают на его поддержку в обмен на те самые 8 талантов, которые ему уже подарены. Но намек привел Флора в ярость, и, заявив, что у евреев не было права вывозить свои книги из города, он бросил их в тюрьму.
Весть об этом мгновенно дошла до Иерусалима, и город загудел от возмущения. Но Флор – в соответствии с версией Иосифа о том, что он всеми силами желал подтолкнуть евреев к восстанию, – вместо того, чтобы попытаться утихомирить страсти, потребовал выдать ему из Храмовой казны 17 талантов «под тем предлогом будто император нуждается в них» (по одной из версий, возможно, в счет покрытия недоимок).
Это окончательно вывело народ из себя, и огромная толпа собралась у Храма, требуя немедленно направить делегацию к императору, с тем чтобы он освободил страну от Флора. Нашлись также те, кто поливал прокуратора самыми грязными словами, а несколько шутников взяли в руки корзинки и стали обходить толпу, прося милостыни и жалобно приговаривая: «Подайте бедному, несчастному Флору».
Не секрет, что во все времена власть имущих больше всего раздражало не возмущение, а смех по их адресу. Флор не был в этом смысле исключением: как только ему доложили об этой шутке, он пришел в ярость и направился в Иерусалим во главе большого отряда конницы и пехоты – с явным намерением учинить расправу над его жителями.
Иерусалимцев объял страх. Поначалу, надеясь умилостивить прокуратора, они решили устроить ему обычную торжественную встречу. Но когда по приказу Флора конница двинулась на толпу, та в ужасе разбежалась, и в городе воцарилась мертвая тишина в ожидании грядущих казней.
На следующий день Флор воссел на поставленное перед царским дворцом судейское кресло, вызвал к себе на суд священников и старейшин и потребовал выдать ему тех, кто насмехался над ним, угрожая в противном случае расправиться с ними самими. Те попытались урезонить прокуратора, утверждая, что народ в целом настроен мирно, не собирается бунтовать, а тех юношей, которые позволили себе грубые шутки по его поводу, уже невозможно разыскать, да они, наверное, и сами жалеют о своем поступке. Так что для всех будет лучше, если Флор сейчас объявит, что прощает народ, вместо того чтобы казнить его за выходку нескольких человек.
Однако прокуратор явно не был готов выслушивать такое предложение и вместо этого дал приказ своим солдатам разгромить рынок в Верхнем городе и убивать там всех, кто попадется под руку. Большинство прибывших с ним всадников и пехотинцев составляли жители эллинизированных городов Иудеи и Галилеи, ненавидевшие евреев не меньше прокуратора, и потому они бросились исполнять приказ не за страх, а за совесть: в течение короткого времени рынок был разгромлен и свыше 3600 человек, живших в прилегающих к нему кварталах, включая женщин и детей, были убиты.
Невольной свидетельницей этой кровавой резни стала принцесса Вереника (Береника, или, еще точнее, Береники – именно так произносили ее имя современники). Дочь Агриппы Первого, она в это время как раз развелась со своим третьим мужем, царем Киликии Полемоном, тяжело заболела и, выздоровев, прибыла в Иерусалим, чтобы принести благодарственную жертву в Храм. Заодно она приняла на месяц обет назорейства, обрила голову и ходила босиком. Ей было на тот момент 36 лет, и она все еще была очень красива.
Вереника направила к Флору командира своего отряда телохранителей с мольбой прекратить кровопролитие, но дело кончилось тем, что римские солдаты едва не растерзали ее саму и ее стражу, и она была вынуждена укрыться во дворце. Затем босая и с неприкрытой головой принцесса предстала со все той же мольбой перед прокуратором, но ей дали ясно понять, что лучшее, что она может сделать ради своей безопасности, это уйти.
Завершился этот страшный день тем, что Флор приказал схватить, бичевать, а затем распять десятки знатных иерусалимцев, включая тех, кто имел римское гражданство и звание «всадников», то есть подлежал казни только через суд и уж, конечно, никак не унизительной смерти через распятие.
Ни один прокуратор до того не позволял себе подобного злодеяния и беззакония. И Иосиф, бывший непосредственным свидетелем происходившего, понимал, что это только начало.
Так, в написанной впоследствии «Иудейской войне» Иосиф ясно доказывает, что последующее восстание было обусловлено исключительно стяжательством, произволом и жестокостью римских прокураторов, снимая, по сути дела, с евреев обвинения в необоснованном мятеже.
* * *
Дальнейшие события развивались стремительно. Во время похорон жертв резни возмущение народа нарастало, повсюду раздавались призывы взяться за оружие и отомстить римлянам. Однако и храмовая аристократия, и члены Синедриона видели в тот момент свою миссию в том, чтобы предотвратить новое кровопролитие, и потому, с одной стороны, стали умолять народ успокоиться и не провоцировать Флора, а с другой – направили к нему делегацию с заверением в полной лояльности населения.
Флор в ответ сообщил, что уже вызвал еще две когорты (то есть примерно тысячу воинов) в Иерусалим и теперь требует, чтобы иерусалимцы приветствовали их радостными криками у ворот города. И это после только что учиненной резни! Тем не менее это унизительное требование было принято. Однако Флор отдал приказ когортам не отвечать на приветствия так, как того требовала установившаяся традиция, то есть ни в коем случае не демонстрировать, что они прибыли с мирными намерениями, а как только из толпы раздастся чей-то оскорбительный выкрик, пустить в ход оружие.
Этот расчет оправдался: когда римляне отказались продемонстрировать, что пришли с миром, несколько человек из толпы выкрикнули оскорбления в адрес ненавистного прокуратора, и когорты тут же направились на толпу, обнажив мечи и убивая каждого, кто попадался им под руку. Толпа бросилась искать спасения в городе, и у ворот возникла страшная давка. Конница стала давить копытами мечущихся в панике людей и продвигаться вперед, чтобы прорваться к крепости Антония, соединиться с находившимся там гарнизоном, и уже оттуда прорваться на Храмовую гору и начать грабить Храм.
Но к этому времени мужчины города начали браться за оружие – точнее, за топоры, кухонные ножи, словом, за все, что попадалось под руку. Молодежь, быстро собрав камни и схватив охотничьи луки, поднялась на крыши домов. Чтобы не дать Флору и его бойцам прорваться на Храмовую гору, евреи подожгли и разрушили галерею, соединявшую Антонию с Храмовой горой, и прорыв в Храм по прямой стал невозможен. Одновременно они перекрыли и дорогу в саму крепость. На улицах вспыхнули ожесточенные бои, сверху на головы римлян летели камни и стрелы. Поняв, что в Храм войти не получится, римляне отступили к царскому дворцу, который Флор сделал своей временной резиденцией.
Увидев, что события приобретают крайне неприятный для него оборот, прокуратор вызвал к себе наиболее горячих сторонников мира с Римом – священников-саддукеев и объявил, что поручает им восстановить спокойствие в городе, для чего оставляет им войска, а сам возвращается в Кейсарию. Те заверили его, что смогут утихомирить страсти, и попросили оставить – помимо гарнизона в Антонии – еще одну когорту, но только не ту, что только совершила кровопролитие.
Вернувшись в Кейсарию, Флор тут же засел за письмо губернатору Галлу, в котором обвинил евреев в мятеже, нападении на римских солдат и в намерении сбросить с себя власть Рима.
Но и евреи не сидели сложа руки: вместе с Вереникой они направили Цестию Галлу письмо, в котором подробно рассказывалось о всех провокациях Флора и устроенном им кровопролитии.
Галл поспешил созвать совет, на котором приближенные советовали ему самому направиться в Иерусалим во главе всей имеющейся в его распоряжении армии и уже на месте разобраться, что там происходит, и либо залить Иудею кровью, либо, если евреи остались верными римлянам, поддержать проримские настроения. Однако Галл счел, что время для такого шага еще не пришло, и направил трибуна Неаполитана тщательно разобраться в происходящем в Иерусалиме и представить ему доклад о ситуации.
По дороге в Иерусалим Неаполитан встретил царя Агриппу Второго, который возвращался из Александрии, куда ездил поздравлять своего дальнего родича Тиберия Александра с назначением губернатором Египта. Агриппа не скрывал, что сам донельзя встревожен дошедшими до него от сестры вестями и едет в город в надежде утихомирить страсти.
Примерно в километре от города царя и трибуна уже ждала толпа встречающих, во главе которой шли с обнаженными и посыпанными пеплом головами рыдающие вдовы убитых. Были здесь и члены Синедриона, и постоянно служащие в Храме коэны, но большую часть вышедших приветствовать царя и посланника губернатора составляли обычные горожане. Все они стали наперебой рассказывать о злодеяниях Флора и убедили Неаполитана с одним слугой пройтись по городу и самому удостовериться в том, что его население настроено вполне миролюбиво и вовсе не желает восставать против Рима.
Неаполитан последовал этим просьбам; осмотрев город, убедился, что все в нем спокойно, и, совершив жертвоприношение в Храме, отправился к Цестию Галлу.
После этого взгляд всего народа обратился к Агриппе Второму. Зная о его огромных связях в Риме, народ надеялся, что он вместе с первосвященником возглавит делегацию, которая донесет до Нерона правду о случившемся, снимет с евреев обвинения в бунте и добьется скорейшей отставки Гессия Флора.
Агриппа в ответ велел собрать народ на огромной площади перед своим дворцом. Он явился туда вместе с сестрой, которая своим религиозным рвением и сочувствием к бедам своего народа успела завоевать симпатии масс. Здесь последний прямой потомок Ирода по мужской линии произнес пространную речь, которую Иосиф в «Иудейской войне» приводит от первого до последнего слова. Агриппа и в самом деле был той фигурой, которая могла бы повернуть ход событий и предотвратить многие грядущие беды, но в силу целого ряда причин не смог или не захотел этого сделать.
Глава 6
Бунт
Большинство еврейских, а вслед за ними и целый ряд европейских историков воспринимают Агриппу Второго в крайне отрицательном свете. По их мнению, в отличие от отца, он не чувствовал связи со своим народом, считал себя не евреем, а римлянином, и его забота о судьбе евреев и Иудеи была притворной – больше всего его заботили собственные интересы, желание угодить Риму и сохранить за собой подаренное ему небольшое царство.
Автору этой книги такой подход кажется крайне упрощенным. На самом деле, Агриппа Второй был, видимо, неоднозначной личностью; вне сомнения, он испытывал тревогу за будущее Иерусалима и Храма; он метался между этой тревогой и собственными шкурными интересами, а потому старался избегать принятия каких-либо тяжелых решений. В силу этого он никак не годился на роль подлинного национального лидера и в итоге вступил на путь коллаборационизма.
Яснее всего мнение еврейских исследователей об Агриппе выразил один из лучших переводчиков Флавия на русский язык Яков Львович Черток (1860–1913) в комментариях к «Иудейской войне»: «Воспитанный при римском дворе Агриппа II был его преданной креатурой и послушным орудием в руках сирийских наместников и иудейских прокураторов, в дружбе которых он всегда заискивал в собственных интересах»[29].
Столь же неоднозначно относился к этому царю и Иосиф бен Маттитьягу, который, вне сомнения, часто встречался с ним во время своей последующей жизни вРиме, прибегал к его связям и даже консультировался с ним во время написания «Иудейской войны». Сьюард даже предполагает, что он получил запись речи Агриппы от него самого и затем просто вставил ее в книгу. Тесса Раджак же убеждена, что эта речь написана по памяти и содержит в себе немало добавок от самого Иосифа, который устами Агриппы Второго выражает собственную позицию – уже тогда он был убежден, что восстание против Рима бессмысленно, поскольку обречено на поражение и чревато самыми тяжелыми последствиями для его народа[30]. Но то, что Иосиф вместе с другими стоял и слушал эту речь, внимательно наблюдая за реакцией окружающих, сомнений не вызывает.
Отношение же Иосифа к Агриппе – в тот момент или задним числом, во время написания книги, – никак не назовешь комплементарным. Скорее наоборот: он презирает царя за нерешительность и чрезмерную озабоченность своими интересами в ущерб интересам нации.
«Судя по настроению народа, можно было видеть ясно, что, если ему будет отказано в отправлении депутации, он не останется в покое, – пишет Иосиф Флавий. – Но Агриппа рассчитал, что назначение послов для обжалования Флора создаст ему врагов; с другой же стороны, он отлично понимал, как невыгодно будет для него, если он допустит, чтобы военная вспышка, охватившая иудеев, разгорелась в пламя» (ИВ, 2:15:3).
Сама речь Агриппы, произнесенная на арамейском, была построена в лучших традициях греческого и римского ораторского искусства – видно, что он этому учился и немало потрудился, готовя выступление на языке, бывшем ему по большому счету чужим. Современным политикам и спичрайтерам, безусловно, есть чему поучиться у него, чтобы повысить силу своего влияния на любую аудиторию.
Царь начал с того, что выразил уверенность в мирном настроении большинства народа, а заодно буквально одной-двумя фразами посеял сомнение в чистоте намерений тех, кто призывает к восстанию против римлян: «Если бы я видел, что вы все без исключения настаиваете на войне против римлян, а не наоборот, что лучшая и благонадежная часть населения твердо стоит за мир, то я бы не выступил теперь перед вами и не взял бы на себя смелость предложить вам свой совет. Ибо всякое слово о том, что следовало бы делать, бесполезно, когда гибельное решение принято заранее единогласно. Но так как войны домогается одна лишь партия, подстрекаемая отчасти страстностью молодежи, не изведавшей еще на опыте бедствий войны, отчасти – неразумной надеждой на свободу, отчасти также – личной корыстью и расчетом, что, когда все пойдет вверх дном, они сумеют эксплуатировать слабых, – то я счел своим долгом собрать вас всех сюда и сказать, что именно я считаю за лучшее, дабы люди разумные опомнились и переменили свой образ мыслей и добрые не пострадали из-за немногих безрассудных».
Затем он предложил разобрать суть претензий народа к римлянам по пунктам. Он утверждал, что если ими движет желание освободиться от власти Рима, то начинать восстание из-за желания сменить прокуратора нелепо: даже самый мягкий прокуратор все равно будет воплощать эту власть. Если же они хотят начать войну только из-за прокуратора, то это еще глупее, поскольку «нелепо из-за одного человека бороться со многими, из-за ничтожных причин – воевать с такой великой державой».
Далее Агриппа сделал экскурс в историю, напомнил, что евреи сами виноваты в потере независимости, так как сами пригласили римлян на свою землю, и далее стал напоминать о мощи Рима и о том, сколько народов, куда более многочисленных и обладающих куда большей территорией, ресурсами и воинственностью, чем евреи, вынуждены были склонить голову перед этой мощью. Один пример показательнее другого следовал за другим, и, наконец, Агриппа добрался до соседнего Египта, который поистине огромен, защищен со всех сторон и тем не менее, кроме денег, покорно снабжает Рим продовольствием:
«Но все это бессильно против счастья римлян; два легиона, расположенные в городе, обуздывают далеко простирающуюся египетскую страну точно так же, как и родовую македонскую честь. Где же вы думаете найти союзников против римлян? В необитаемой ли части земли? Ведь на обитаемой земле все принадлежит Риму. Или, быть может, кто-либо из вас перенесется мыслью за Евфрат и будет мечтать о том, что наши соплеменники из Адиабены поспешат к нам на помощь? Но они, во-первых, без основательного повода не дадут себя втянуть в такую войну; а если бы даже они и приняли такое безрассудное решение, то их выступлению воспрепятствуют парфяне, потому что в интересах последних лежит сохранение мира с римлянами, которые всякую вылазку парфянских подданных против них будут считать нарушением мирного договора. Таким образом, ничего больше не остается, кроме надежды на Бога. Но и он стоит на стороне римлян, ибо без Бога невозможно же воздвигнуть такое государство. Подумайте дальше, как трудно станет вам даже в борьбе с легкопобедимым врагом сохранить чистоту вашего богослужения; обязанности, соблюдение которых вам больше всего внушает надежду на помощь Бога, вы будете вынуждены переступать и этим навлечете на себя его немилость».
Таким образом, из его спича следовало, что сам Всевышний в данный момент истории находится на стороне римлян и выступать против них бессмысленно.
Завершил Агриппа речь призывом задуматься над теми бедствиями, которые навлечет за собой восстание как на евреев, живущих на своей земле, так и на тех, кто живет в других странах, и результаты его будут поистине катастрофическими: «Никто же из вас не станет надеяться, что римляне будут вести с вами войну на каких-то условиях и что когда они победят вас, то будут милостиво властвовать над вами. Нет, они для устрашения других наций превратят в пепел священный город и сотрут с лица земли весь ваш род; ибо даже тот, который спасется бегством, нигде не найдет для себя убежища, так как все народы или подвластны римлянам, или боятся подпасть под их владычество. И опасность постигает тогда не только здешних, но и иноземных иудеев – ведь ни одного народа нет на всей земле, в среде которого не жила бы часть ваших. Всех их неприятель истребит из-за вашего восстания; из-за несчастного решения немногих из вас иудейская кровь будет литься потоками в каждом городе и каждый будет иметь возможность безнаказанно так поступать. Если же иудеи будут пощажены, то подумайте, какими недостойными окажетесь вы, что подняли оружие против такого гуманного народа. Имейте сожаление если не к своим женам и детям, то по крайней мере к этой столице и святым местам! Пожалейте эти досточтимые места, сохраните себе храм с его святынями! Ибо и их не пощадят победоносные римляне, если за неоднократную уже пощаду храма вы отплатите теперь неблагодарностью. Я призываю в свидетели вашу Святая Святых, святых ангелов господних и нашу общую отчизну, что я ничего не упустил для вашего спасения. Если вы теперь примете правильное решение, то вместе со мной будете пользоваться благами мира, а если вы последуете обуревающим вас страстям, то вы это сделаете без меня, на ваш собственный риск».
Речь эта, которая во многом, увы, оказалась пророческой, была поначалу воспринята народом с энтузиазмом. Немало этому способствовало и то, что по ее окончании Агриппа разрыдался, а вслед за ним заплакала и Вереника. На какое-то время Агриппа и в самом деле стал вождем нации. Народ принялся заверять царя, что на самом деле они не против Рима, а выступают исключительно против Флора. В ответ царь заметил, что, отказавшись платить налоги (это замечание подтверждает предположение историков, что требование Флором 17 талантов из Храма было обусловлено именно неуплатой налогов) и разрушив галерею, ведущую от Антонии к Храму, евреи, по сути, уже начали войну с Римом, и теперь для исправления ситуации надо срочно собрать все подати и восстановить галерею.
После этого члены Синедриона разделили между собой территорию Иудеи и отправились по деревням собирать налоги, а иерусалимцы стали общими усилиями восстанавливать галерею. Но тут выяснилось, что Агриппа отнюдь не собирается хлопотать в Риме о немедленной смене Флора, а, наоборот, собирается убедить народ дожидаться, пока император сам решит назначить ему преемника.
Это мгновенно вызвало взрыв негодования и усилило позиции сторонников восстания. Агриппа, сопровождаемый оскорблениями, поспешил уехать из Иерусалима, а тем временем Менахем (Флавий называет его по-гречески – Манаим), младший сын основателя движения зелотов Иегуды Галилейского, собрав большой отряд, захватил стоявшую недалеко от Мертвого моря и считавшуюся неприступной крепость Масаду. Находившийся там римский гарнизон был перебит, а в распоряжении зелотов оказался хранившийся в крепости огромный арсенал. Это означало, что в руках зелотов оказалось достаточное количество оружия, позволявшее им на равных сражаться с римлянами.
Вскоре после этого и произошло событие, которое, по мнению Иосифа Флавия, да и других историков, стало той «точкой невозврата», после которой крупномасштабная военная операция Рима против Иудеи сделалась неизбежной.
В качестве непосредственного инициатора этих событий выступил бывший письмоводитель Храма сын первосвященника Ханании Эльазар (тот самый, который был «похищен» зелотами), ставший начальником храмовой стражи. Он предложил не принимать в Храм больше никаких даров и не приносить жертвы от имени неевреев, и в первую очередь римлян.