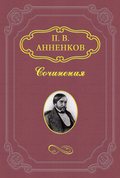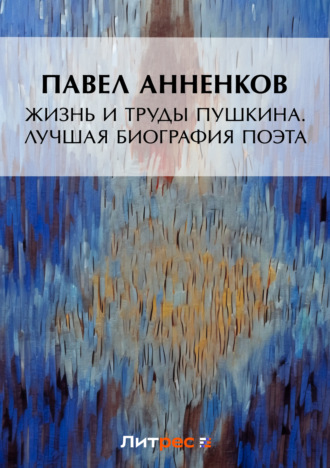
Павел Анненков
Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта
Глава XXXI
«История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», «Русалка», «Дубровский». Пушкин и Гоголь
«История Пугачевского бунта». – Перечисление архивов и книгохранилищ, которые открыты были для Пушкина. – Характер его работ. – Работа и свет. – «Капитанская дочка» идет об руку с «Историей Пугачевского бунта». – Она служит предлогом к поездке в Казань и Оренбург. – Черновой отрывок, из коего составлена просьба об отпуске. – «Русалка», черновой оригинал в тетрадях 1829 г. – Пометка после первой сцены, ее значение. – Программа драмы. – Родство драмы с песнию «Яныш-королевич». – Время появления в свет «Капитанской дочки», «Русалки», «Дубровского». – Когда написан и издан в свет «Арап Петра Великого». – (1827–1837). – Сцена, выброшенная из «Русалки». – Двойная редакция песен русалок в IV действии, либретто для оперы. – Значение «Русалки» в истории пушкинского творчества. – Значение «Дубровского» и отношение к Гоголю. – Явление Гоголевых «Вечеров». – Знакомство Гоголя с Пушкиным. – Слова Гоголя об отношениях Пушкина к нему. – Сюжет «Мертвых душ» и «Ревизора». – Мнение Пушкина о Гоголе. – Анекдот 1829 г., касающийся последнего. – Отрывки из письма Пушкина 1832 г., касающиеся «Дубровского», издания «Сочинений Баратынского», оперы Вельтмана «Летняя ночь», компониста Есаулова.
При собирании документов для истории Петра Великого Пушкин встретился с материалами, которые показались ему столь важными, что он положил их в основание побочного исследования, нисколько не упуская из вида главного предмета своих розысков. Второстепенный, эпизодический труд этот породил «Историю Пугачевского бунта», вышедшую в 1834 году. Здесь кстати будет перечислить все места, с которыми Пушкин вошел в сношения после всемилостивейшей доверенности, облекшей его правом пользования сокровищами государственных архивов. Вслед за первым дозволением он получил высочайшее согласие на рассмотрение библиотеки Вольтера, находящейся в императорском Эрмитаже (29 февраля 1832 г.); затем получил право сноситься с С.-Петербургским архивом инспекторского департамента и с московским отделением его, препроводившим к нему три книги, касавшиеся до истории графа Суворова-Рымникского, вместе с донесениями и реляциями фельдмаршала во время кампаний 1794, 1799 и частию 1800 года. Вместе с тем ему открыт был главный Московский архив Министерства иностранных дел, которому, между прочим, посвятил он несколько месяцев 1836 года – последнего года своей жизни. С сокровищами государственного архива он ознакомился под руководством и наблюдением его сиятельства графа Димитрия Николаевича Блудова. Так разнообразны были археологические занятия Пушкина. Во всем этом особенно изумительно распоряжение его своим временем, способность сохранять неослабно строгую задачу жизни в среде обширного знакомства, какое он имел, и между разнообразнейшими требованиями и наслаждениями общества, которыми никогда не пренебрегал. Мысль его сберегалась без ущерба в шуме забот и во всем ходе великолепной столичной жизни. Несмотря на непрерывную деятельность свою, он еще находил время (и много времени) для исполнения условий и необходимостей личного своего положения. Редко изменяла ему нравственная сила, потребная для того, чтобы сохранять равновесие между противоположными впечатлениями такой жизни и не допускать развития менее важной стороны ее на счет другой. Эти редкие минуты наступали особенно тогда, когда, по стечению случайных обстоятельств, рассеяния и заботы слишком выдавались вперед. Никогда не следовал он, да и не мог следовать, афоризму, произнесенному им в статье о Вольтере: «Настоящее место писателя есть его ученый кабинет». Правда, он жаловался, если на некоторое время одна сторона жизни его перемогала другую, но это принадлежало к минутным случайностям жизни. Так, в 1833 году писал он в Москву: «Заботы о жизни мешают мне скучать, но нет у меня досуга… необходимого для писателя… Кручусь в свете… все это требует денег: деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». После таких жалоб Пушкин снова возвращался к обыкновенному течению жизни и старался восстановить равновесие между ее противоположными элементами. В такой раме заключена была его поэтическая и ученая деятельность. Рядом с своим историческим трудом Пушкин начал, по неизменному требованию артистической природы, роман «Капитанская дочка», который представлял другую сторону предмета – сторону нравов и обычаев эпохи. Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое им в истории, нашло как будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок. Оба произведения были кончены в одно время, и когда в августе 1833 г. собрался он посетить Оренбург и Казань, то в числе причин, побуждающих его к этой поездке, представлял и необходимость довершить роман на тех самых местах, где происходит его действие. Коммерческие соображения занимают тут, как и всегда, свою долю. Все это можно видеть из чернового отрывка, с которого, вероятно, составлена была просьба об отпуске, поданная им своему начальству по службе: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но они доставляют мне способ проживать в С.-Петербурге, где труды мои, благодаря начальству, имеют цель более важную и полезную. Если угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии… 30 июля. Черная речка». «Русалка», мы уже знаем, не имела оглавления у Пушкина. В рукописях его сохраняется одна перебеленная копия ее, с пометкой после первой сцены: «12 апреля 1832», хотя первые неясные черты драмы встречаются уже в тетрадях 1829 года. Это превосходное создание особенно поражает соединением фантастического сказочного содержания с истинно драматическим положением лиц, отчего в одно время и в удивительной гармонии развивается чудное и сверхъестественное обок с самым определенным содержанием и с картиной старого русского быта. Изящество отделки в этом отрывке достаточно известно публике, но прямое участие фантастического мира в делах земли, обещавшее новое развитие страстей и положений, новые откровения человеческого сердца, внезапно прерывается с появлением молодой Русалочки и со словами Князя: «Откуда ты, прекрасное дитя?» Программа не открывает нам ничего далее. Вот в каком виде находится она в бумагах:
Мельник и его дочь.
Свадьба.
Княгиня и мамка.
Русалки.
Князь, старик и Русалочка.
Охотники.
Только «охотники» еще не тронуты были автором, но теперь они ничего не выражают и не дают ни малейшей пищи любопытству исследователя. Дальнейшее развитие фантастической драмы должно искать не тут, а в чешском сказании «Яныш-королевич», которое переведено было Пушкиным и помещено в «Песнях западных славян». В пьесе «Яныш-королевич» находим первую мысль «Русалки», и замечательно, что Пушкин перевел из сказания столько, сколько переложил в драму, а об остальной части вскользь упомянул в примечаниях к «Песням западных славян»: «Песня о Яныше-королевиче» в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел первую, и то не всю». Перебеленная рукопись Пушкина сохраняет еще множество помарок и исправлений карандашом, из которых одни вошли в текст при печатании драмы, а другие не могли войти, будучи только непонятными намеками на поправки[221]. Между прочим, и в ней встречается одно место, зачеркнутое Пушкиным крест-накрест и которое действительно принадлежит к уклонениям фантазии, принявшей незаметно боковой, неправильный ход. По обыкновению, приводим это место для поучения молодым писателям. Во второй сцене драмы, после свадьбы Князя и укорительных слов Дружки девушкам за несвадебную песню их, в рукописи сцена еще продолжается:
Дружко
Уж эти девушки! Никак нельзя им
Не напроказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.
Ба! это что? Да это голос князя…
(Девушка под покрывалом переходит через комнату.)
Ты видела?
Сваха
Да, видела.
Князь (выбегает).
Держите!
Гоните со двора ее долой!
Вот след ее – с нее вода течет.
Дружко
Юродивая, может статься. Слуги,
Смеясь над ней, ее, знать, окатили.
Князь
Ступай прикрикни ты на них. Как смели
Над нею издеваться и ко мне
Впустить ее? (Уходит.)
Дружко
Ей-богу, это странно.
Кто там? (Входят слуги.) Зачем пустили эту девку?
Слуги
Какую?
Дружко
Мокрую.
Слуги
Мы мокрых девок
Не видали.
Дружко
Куда ж она девалась?
Слуги
Не ведаем.
Сваха
Ох, сердце замирает.
Нет, это не к добру.
Дружко
Ступайте вон,
Да никого, смотрите, не впускайте.
Пойти-ко мне садиться на коня.
Прощай, кума.
Сваха
Ох, сердце не на месте.
Не в пору сладили мы эту свадьбу.
Взамен обаятельные песни русалок в 4-й сцене драмы имеют еще у Пушкина двойную редакцию. Рядом с первым текстом, принятым всеми изданиями:
Поздно. Волны охладели,
Петухи вдали пропели,
Высь небесная темна,
Закатилася луна, —
у Пушкина еще стоит другой:
Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,
Петухи в селе пропели,
Закатилася луна.
В первой песне русалок, после стихов:
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать, —
Пушкин сбоку, словно намереваясь еще продолжать ее, написал:
Слушать ухом ненасытным
Шумы разные земли…
Следующий затем речитатив русалок, начинающийся во всех изданиях так:
Тише! птичка под кустами
Встрепенулася во мгле, —
может быть читан еще и так:
Тише, тише! под кустами
Что-то дрогнуло во мгле.
Нам кажется даже, что эти вторые редакции еще лучше первых. По некоторым рассказам, сообщенным недавно публике, можно заключить, что Пушкин смотрел на «Русалку» свою как на либретто для оперы. В таком случае ни одна страна Европы не имеет либретто, более исполненного чудной поэзии, более близкого к гениальному воспроизведению в искусстве народных представлений. Нам кажется, однако ж, что «Русалка» Пушкина есть вместе и его лебединая песнь, которой он прощался с вольным артистическим взглядом своим на предметы, переходя к определенному строгому направлению, где артист уже подчиняется идее, им самим избранной для себя.
Повесть «Дубровский» тоже не имела заглавия у Пушкина, место которого занимает пометка «21 октября 1832 года». Затем уже автор помечал каждую главу до последней (см. примечания к роману), конченной 3 января, так что вся повесть была написана с небольшим в три месяца, и притом еще карандашом для скорости. Эта быстрота сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романический конец ее, который разноречит с сущностию всего остального содержания, замечательного строгой верностию с действительным бытом и нравами описываемого общества. Пушкин нарисовал свою картину с особенной энергией, а в характере Троекурова явился глубоким психологом. Вся повесть его и теперь поражает соединением истины и поэзии. В русской литературе мало рассказов, отличающихся таким твердым выражением физиономии: это живопись мастера. Весьма важно для литературных соображений и то, что «Дубровский» написан ранее произведений Гоголя из русского быта, веден иначе, чем они, и совсем в другом тоне; но мысль поставить современную жизнь на главный план, сохраняя ей те черты поэзии, драмы и особенностей, какие она заключает в себе, им обща.
В конце 1832 года Н. В. Гоголь жил неподалеку от Пушкина, в Малой Морской. Он издал тогда вторую часть своих «Вечеров на хуторе», за которыми последовали «Миргород», «Арабески» и «Ревизор». Все это выходило под глазами, так сказать, Пушкина и друзей его[222]. Таким образом, со многими из произведений, заключавшимися в сборниках Гоголя, Пушкин знаком был еще до появления их: Н. В. Гоголь читал ему предварительно свои рассказы. Мы уже видели, с каким живым одобрением встретил он «Вечера на хуторе»; дальнейшее развитие Гоголя только увеличивало надежды его на будущность молодого писателя. Он понуждал его к начатию какого-либо большого создания, и Н. В. Гоголь сохранил нам слова поэта в одной из неизданных своих записок, слова, которые мы буквально переписываем здесь:
«Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего, мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение: это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Дон-Кишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями; и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, которого, по словам его, он бы не отдал другому никому; это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.)»
Итак, по сознанию самого Гоголя, и «Ревизор» и «Мертвые души» принадлежали к вымыслам Пушкина. В 1835 году, когда Гоголь знакомил петербургских друзей своих с первыми из сих произведений и довольно часто читал комедию на вечерах у разных лиц, Пушкин не уставал слушать его. Наклонность поэта к веселости (самому драгоценному и самому редкому свойству в писателе, по его мнению) нашла здесь полное удовлетворение, как прежде в рассказе о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем – и над обоими произведениями смех его был почти неистощим. Серьезную сторону в таланте Гоголя постигал он, однако ж, с замечательной верностью. Он считал одно время «Невский проспект» лучшею повестью его. В ней находил он замечательный шаг от идиллической, комической и далее героической живописи малороссийского быта к более близкой нам действительности, которая под своею ровною поверхностию таит множество источников поэзии и разработка которой делается тем почетнее, чем она труднее. Взгляд Гоголя на способ создания, его манера представления лиц и образов прямо, без оговорок и умствований, совпадала с мыслями, какие имел Пушкин о сущности и достоинстве рассказа. Даже неправильность языка, иногда так сильно бросающаяся в глаза, особенно в первых произведениях Гоголя, находила оправдание у человека, который писал к Погодину: «Надо дать языку нашему более воли», а про себя говорил: «Прозой пишу я гораздо неправильнее[223], а говорю еще хуже и почти так, как пишет Гоголь». Все это показывает несомненно одно: с ранних пор Пушкин прозревал в Гоголе деятеля, призванного дать новую жизнь той отрасли изящного, которую он сам пробовал с славой, но для которой потребен был другой талант, способный посвятить ей одной все усилия свои и подарить ее созданиями, долго и глубоко продуманными. На это и указывал он Гоголю, представляя тем самым еще раз подтверждение мысли, что в нравственном, как и в физическом, мире нет внезапных перескоков. То, что кажется явлением, отрезанным от всего прошедшего, при ближайшем рассмотрении оказывается естественным следствием предшествующего развития[224].
С другой стороны (и это весьма важно для большего пояснения самой личности нашего поэта), он не мог быть вполне доволен всем содержанием Гоголя в эту эпоху его развития. От зоркости пушкинского взгляда не могли укрыться и резкое по временам изложение мысли, и еще жесткое проявление силы, не покоренной искусством. И та и другая часто еще у Гоголя вырывались наружу помимо эстетических условий, ограничивающих и умеряющих их. Притом же Гоголь не обладал тогда и необходимою многосторонностию взгляда. Ему недоставало еще значительного количества материалов развитой образованности, а Пушкин признавал высокую образованность, как известно, первым, существенным качеством всякого истинного писателя в России. Но мысли свои о людях Пушкин высказывал чрезвычайно осторожно, ценя всего более лицевую сторону их жизни, как знаем. Наедине, однако ж, с особами, которым хотел показать признаки всей своей доверенности, он любил представлять образцы своего меткого определения характеров и наблюдательной способности. Отсюда и причина некоторых недоразумений как в отношении самого Гоголя, так и в отношении других его знакомых. Люди, слышавшие доверчивые его суждения, принимали их за нечто противоположное с теми, какие высказывал он перед светом, публично, когда собственно никакого противоречия между ними не существовало и одни не исключали других. Пишущий эти строки сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: «Пушкин, – говорил Гоголь, – дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он ни положил добро свое – бери его, а не ломайся». И таково было обаяние личности поэта нашего, что когда за три месяца до смерти Гоголя составитель этих материалов напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменилась, просветлела и оживилась его физиономия…[225]
Глава XXXII
Осень 1833 г. Поездка в Оренбург и Болдино
Стихотворение «Странник», написанное на Черной речке. – Пушкин получает разрешение ехать в Казань и Оренбург, заезжает в Болдино. – В сентябре прибывает в Казань. – А. А. Фуке. – Сведения, сообщенные ею о пребывании Пушкина в Казани. – Портрет Каменева. – Выезд из Казани и путь в Оренбург. – Пребывание в Оренбурге, Даль, Пьяное, еще сведения об Есаулове. – Пушкин выезжает из Оренбурга 25 сентября и 2 октября является опять в Болдино. – Месяц творческой деятельности в Болдине. – Новый и последний вид творчества.
Мы видели, что с дачи своей на Черной речке, где, между прочим, написан был 26 июня «Странник» («Однажды, странствуя…»), к которому скоро возвратимся, Пушкин просил позволения ехать в отпуск, в Казань и Оренбург. Он получил разрешение на поездку 12 августа, но начал свое путешествие, кажется, с Дерпта, где тогда жила К. А. К[арамзин]а. В конце этого месяца мы уже находим его в Нижегородской губернии, в селе Болдине, откуда он и предпринял дальнейшее путешествие по губерниям. 6 сентября Александр Сергеевич прибыл в Казань и на другой день рано утром отправился за 10 верст от города к Троицкой мельнице, где Пугачев стоял лагерем, а вечером посетил купца Крупеникова, бывшего в плену у самозванца. А. А. Фукс, супруга К. Ф. Фукса, замечательного человека, оставившего такую благодарную память по себе в Казани, рассказала нам пребывание Пушкина в городе и в ее доме («Казанские ведомости», 1844 г., № 2). Пушкин говорил с ней о значении магнетизма, которому верил вполне, передал анекдот о сделанном ему предсказании одной гадальщицей в Петербурге, разбирал и оценял современных ему литераторов и людей, прибавив по обыкновению: «Смотрите, чтоб все осталось между нами – сегодня была моя исповедь». Он хвалил также стихи самой хозяйки и, как будто скучая заботами, сопряженными с ученым трудом, заметил: «Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой; признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернилы». Всего замечательнее, что он два раза возвращался к портрету Гаврилы Петровича Каменева, находившемуся в кабинете хозяйки, и просил сведений о нем, обещаясь написать его биографию: «Это замечательный человек, – сказал он, – и сделал бы многое, ежели бы не умер так рано. Он первый отступил от классицизма, и мы, русские романтики, обязаны ему благодарностью». Известно, что означали эпитеты классический и романтический у Пушкина. С живою благодарностию покинул он и Казань, и семейство Фукса. На другой день, 8 сентября, он до света еще уехал в Симбирск и 12 числа был в селе Языкове (Симбирской губернии), принадлежащем поэту Н. М. Языкову. 14 числа выехал он из Симбирска по направлению к Оренбургу и возвратился опять назад с третьей станции, выбрав другой тракт для путешествия, чему причиною была случайная задержка в лошадях. Заяц, перебежавший ему дорогу и которого, по его словам, хотелось бы ему затравить на месте, – накликал ему эту помеху. 19 сентября прибыл он в Оренбург. Там останавливался он, как мы слышали, в доме самого генерал-губернатора и вместе с В. И. Далем объехал Оренбургскую линию крепостей, ища везде живых преданий и свидетельства очевидцев. Подобно тому как он провел полтора часа у купца Крупеникова в Казани, так в Оренбургской губернии он разговаривал со стариком Дмитрием Пьяновым, сыном того Пьянова, о котором упоминается в «Истории Пугачевского бунта»; а в селении Берды встретил старую казачку, помнившую происшествия того времени очень живо. Он пишет, что чуть-чуть в нее не влюбился, несмотря на малопривлекательную наружность. В Уральске Пушкин был принят с необычайным радушием всем обществом города, соединившимся в одном обеде, данном в честь поэта. 28-го выехал он из Оренбурга и через Саратов и Пензу возвратился в Болдино, где был 2 октября. Таким образом, на поездку в Оренбург, на тамошние исследования и на возвращение к себе в Нижегородскую губернию Пушкин употребил не более одного месяца. С начала октября до самого ноября месяца Пушкин уже не оставлял деревни и 28 числа последнего месяца прибыл в С.-Петербург к месту служения, как обозначено в его формуляре. В этот промежуток времени написано им в глухом уединении Болдина несколько произведений, которые по характеру своему составляют новый вид творчества, в каком уже застала его и смерть[226].