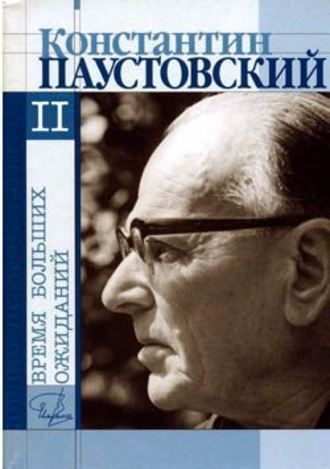
Константин Паустовский
Книга скитаний
Медные подковки
Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом этот стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как дом Ростовых.
Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено.
Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, – тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты.
Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы.
Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам – живой и гремящий.
Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья.
Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было сплести венок поэту.
Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои.
Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения.
Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы. И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его?
А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему – сильному духом и уверенному в себе поэту.
Да, он наступил на горло собственной песне. Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа.
Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту.
Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд.
Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции, особенно поэтов.
Недаром в 1921 году он написал:
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина…
Он писал свои стихи, как молотобоец, – засучив рукава. Есенин сказал, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».
Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина – и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью.
Зачем? Кто знает?
Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту.
Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше; тем становится грозней. Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там.
Я почти не знал Маяковского.
После возвращения из скитаний по югу в Москву я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом.
Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился Асеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт (сестры произносили его фамилию «Хехт») снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь.
Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.
Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.
Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.
Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано, вся мировая культура изучена им и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал потому, что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры.
Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву.
Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева Оксана с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей:
Оксана, жемчужина мира!
Я воздух на волны дробя,
Со дна Малороссии вырыл
И в песни оправил тебя…
Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Окжемир». Так же звали и Оксану.
Окжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал.
Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких, преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор.
Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчала и Окжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянке. Там действительно водились огромные раки – настоящие речные крокодилы.
– Нудное дело, – сказал Маяковский. – Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой!
Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье, пришел Асеев, и я сбежал к себе.
С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.
Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов.
Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» – у меня сжалось горло, – так это было хорошо.
Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений.
У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.
Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести.
В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин.
Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни, – я вернулся в Москву незадолго до его смерти.
Впервые я увидел Есенина в гробу, в Доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано: «Тело великого национального поэта покоится здесь».
День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток.
В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц.
Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными – они могли разбудить. А будить его было нельзя, – так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле.
Много позже, в 1960 году я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку, на диване, подобрав колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть.
Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза.
Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю – ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги.
Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти «и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов.
По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо.
Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз – и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею.
И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ – родник поэзии. И это действительно так.
Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин, все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа.
Недавно я читал стихи совершенно забытой поэтессы Растопчипой, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческих строки.
Поэты русские свершают жребий свой…
Не кончив песни лебединой…
В этих словах было только признание того, что случилось.
Оскорбления, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер – все это было внешней картиной этих трагедий.
Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день – упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть.
…Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном – и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновенья. Живут только воспоминания – бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно.
И вдруг – отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека. К нему. С какою вестью?
Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала! Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна!
Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор.
И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме – ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза.
Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Маленец или около песчаного косогора. И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив.
Этот сон о Пушкине или, как говорили в старину, – «видение», так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах – от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.
Девонский известняк
Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего хрустящего снега в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие-то зерна и песчинки.
Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали.
Первая весна! Prima vera! Когда мы с мучениями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучные латинские слова впервые примирили нас – и то немногих – с этим языком. «Прима вера» – первая полудетская весна. Та весна, когда стрелки травинок еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков.
Тихое солнце в полном безветрии грело землю (это было в Орловской области около городка Ливны) и спокойно сверкало над просторной – тогда еще уездной, а ныне районной – Россией.
В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. Вдали, в печном дыму пригородных слободок – Стрелецкой и Ямской – орали, надсаживаясь и сдуру теряя голоса, слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни, – петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертны и люди.
Я отпросился из РОСТА на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы.
В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью, тоже врачом, и сыном-геологом. После экспедиции на восточный берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги.
Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку – дочь машиниста Таю – и меня.
Иногда с нами ходила и его сестра Нина Дмитриевна – строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен и ее отец.
Слава о нем, как о бескорыстном и самоотверженном докторе-исцелителе, жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце и в самом Орле.
К отцу вдова его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его врачебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами.
У всех девушек были открытые, очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах этих девушек и к их приветливым лицам.
Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир, и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у Шацких.
В этих домах, как выражались в старину, можно было «отдохнуть душой». Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, легкая суета праздников, старые диваны, над которыми склонялась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом – железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так торопливо работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое-нибудь всегда особенное варенье («Вы не поверите. Тая достала в Орле десять кило сахарного песку») то из китайских яблок, то из ежевики – все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать: он, мол, «обволакивает и успокаивает людей».
– Ну и слава богу, что успокаивает, – говорила старушка Варвара Петровна, – хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов и, как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку с вишневым вареньем да сходите в кино. Там, говорят, представление идет замечательное про какого-то закройщика из Торжка. Тая прямо обхохоталась.
Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна.
Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам, и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка.
На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками, пушистые почки-»барашки». Они распушились как раз к вербному воскресенью.
Вдоль берега реки снег уже стаял, но подальше, па краю полей, он еще лежал толстым покровом.
Геолог объяснял это тем, что Быстрая Сосна протекает у Ливен в мощных пластах девонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливен.
Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на седьмом году революции еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых щук, пускают их в корыто с водой и долго – не меньше чем два часа, – смотрят, не отрываясь, в желтые и злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки-Петушка. Тоже, говорят, помогает.
Тая только вскрикивала и с испугом взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить.
Когда геолог заговаривал о девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе.
Губительное дыхание девонского известняка было той легкой и безопасной манией, какой страдал геолог.
Кроме того, он убеждал меня, правда, не очень уверенно, что человечеству принесет много несчастий, а возможно, и полную гибель все, что начинается на букву «г» – Германия, Гогенполлерны, Гитлер, Геббельс (тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма).
Но, в общем, геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал.
На второй день моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается пасха.
На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плошках овес.
Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашеных стружек – цветов еще не было, они не распустились.
Цветы и венки из стружек делали очень искусно (особенно большие лоснящиеся розы) ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином – ярко и неприятно.
Каждый день геолог гулял за городом с Таей и со мной. Тая была хромая милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы (по словам геолога, конечно, от излучения девонского известняка). Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце.
Тая робко расспрашивала меня (геолога она немного побаивалась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в облака.
Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шаляпина.
Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах – она даже задыхалась и начинала пришептывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей хотелось бы услышать.
К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне здорово попало бы за обман. Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало.
– У меня медицинский ум, – говорила она. – Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их. И человечнее.
Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя.
В воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу Быстрой Сосны молоденького красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки жалейку – простую пастушью дудочку,
Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся.
– Вот! – сказал он смущенно и покраснел. – Здравствуйте! Режу тут… Балуюсь помаленьку…
Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав шинели и не заставила сесть. Жалейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели.
В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды.
– Новобранец? – спросил его Алексей Дмитриевич.
– Так точно! – охотно ответил красноармеец. – Касьян Звонарев. Сам я олонецкий. Тут я недавно.
С давних пор Олонецкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывом: то я читал запоем все, что мог достать о Белоруссии, потом – о Закаспийских степях, а одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова «Год на Севере» и описаниями северных монастырей.
– Был один хороший человек – Касьян с Красивой Мечи, – сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко. – А ты будешь теперь у нас Касьяном с Быстрой Сосны. Согласен?
– Да не очень, – ответил красноармеец. – Я, вернее, Касьян из Заонежья. Может, слыхали?
– Слыхали. Гранитная страна! – сказал Алексей Дмитриевич.
– Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила.
– А в чем же? – спросил я.
– В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церквей рубленых – сколько хошь. Ученые приезжали, считали, считали, сбились – так и уехали, не сосчитавши. У меня дед – плотник, батя мой – плотник, я сам – плотницкий ученик, а бабка моя – первая помощница наших мужиков по плотницкому делу.
– Неужели старуха плотничает? – удивилась Тая.
– Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как в полушалках. Понимаете? В деревянных кружевах. И каждый тщится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилишь. Даже большие мастера отступались, не осмеливались те узоры осилить.
– А как же она работает? – спросила Тая.
– Сначала тоскует. Сидит иной раз до полуночи на крылечке, на всходе в избу, все томится. Ночи у нас по лету все в свету, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сон какой-то. Посидит вот так, потоскует, потом запоет про себя чего-нибудь старинное-престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее. Из новгородских времен. А спевши, возьмет уголек и рисует на чем ни попало узор. И у всех у них, у этих узоров, есть имена. Один называется «Свиток», другой – «Травница», третий – «Петушиный переклик».
Он помолчал.
– Ой, разболтался я, прощения прошу.
– Девон источает яд, – строго сказал Алексей Дмитриевич, – а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство. В этом вся соль.
– Народ у нас действительно зоркий, – согласился Касьян. – Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся, заслали меня в эти поля да овражины. И река тут мутная, глины много.
– Вы бы сыграли, Касьян, – попросила Тая. – На вашей дудочке.
– Извольте, если желаете.
Красноармеец вынул жалейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей беде. Мы сидели, слушали.
Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался, за что-то поблагодарил и ушел.
– Жалко его, – вдруг сказала Тая. – Совсем мальчик. И бледный очень.
– Это от весны, – ответил геолог. – В ливенском весеннем воздухе особенно много девона.
Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны – и бледность, и смущенный ласковый взгляд, и, главное, – пение жалейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений.
Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров…» Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.
Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий.
– Хотите посмотреть места, – спросил он, – куда вам нельзя никогда ездить?
– Почему?
– Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже 45-й параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не путайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню.
Он ушел, загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию.
Под ней была надпись: «Порог Усть-Урт. Вид с северо-запада, со стороны Мангышлака».
Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла оторопь.
В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в 200 – 300 метров – гладкий порог, как бы срезанный ножом исполина.
Казалось, что в этом месте пустыня раскололась и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом.
На отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водомоин, – то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования.
Так иногда подымается над землей в безоблачном свете неба, в чистой его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая – грозовая или ураганная – туча, резко отделенная от остального мира.
Но в этой сухой туче нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых сосков пыли, припадающих к земле»
Усть-Урт! Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное и смертоносное плоскогорье, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог.
Вопреки словам Алексея Дмитриевича, мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой-то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем.
Очевидно, такое же состояние может охватить человека при виде катаклизмов, космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик Земли.
То был застывший катаклизм.
В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда. И ни одной травинки. Даже чий – закаленное полуметровое растение пустыни – не рос нигде, сколько я его ни искал.
«Ад! – подумал я. – Ужас и одиночество».
В этом зрелище было что-то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны.
Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в «Четвертой полосе» «Гудка». Говорили о путешествиях, и Ильф вскользь сказал:
– Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость.
– Люблю афоризмы! – заметил Олеша. – Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа.
Ильф не рассердился.
– Юра, – сказал он убежденно, – вы же не собираетесь всю жизнь гулять в панаме в померанцевых рощах Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля. Что, если вам придется попасть в такие окаянные места, как, скажем, Антарктика или пустыня Гоби? Семьдесят градусов скрипучего мороза или паршивая колючая пыль, что будет хлестать, вам в лицо несколько суток подряд. Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой, до мамы. Так рождаются великие характеры и мужественные души. Иначе не стоит брать в руки гусиное перо.
Я вспомнил эти шутливые слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром. И выдержу. И напишу.
Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас, в Средней России, – тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами.
Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилю, укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни.
Я рассмотрел все остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов Кара-Бугазского залива на Каспии.
Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул к себе своей дикостью, явной тайной, скрытой в его мглистых пространствах. Тайна была. Я это чувствовал.
Потом Алексей Дмитриевич скупо и странно рассказал мне о Кара-Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом. Но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое-где поредел, а кое-где сгустился.
Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована.
Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара-Бугаз.
А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего – не знаю. Может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест закаспийской пустыне. В Ливнах все были на старом месте – и старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из Заонежья.
Он остался в Ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из-за Таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка.
Мне легче было писать о Кара-Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную перекличку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.







