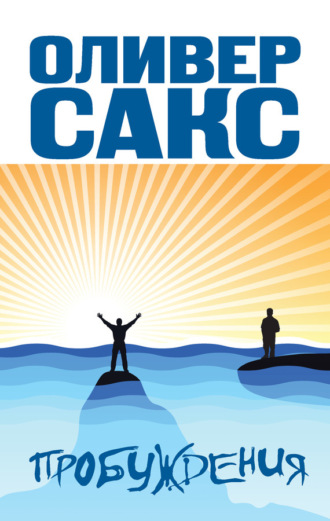
Оливер Сакс
Пробуждения
Это крещендо возбуждения отреагировало только на большую дозу введенных внутривенно барбитуратов, которые погрузили ее в сон всего на несколько минут. Она проснулась, и криз развился с новой силой. После такого чудовищного криза мы, естественно, отменили леводопу.
Наконец, 31 июля мисс Д. погрузилась в глубокий естественный, больше похожий на кому, сон, от которого пробудилась только через двадцать четыре часа. 2 и 3 августа кризов у нее не было, но с новой силой проявились все симптомы паркинсонизма (они были теперь выражены больше, чем до назначения леводопы). Женщина пребывала в состоянии болезненной депрессии, хотя явила нам неистребимый дух (или бледную тень) былого мужества и юмора: «Эта леводопа, – прошептала она (мисс Д. почти потеряла голос). – Это зелье надо назвать более подходящим именем – Hell-леводопа!»
1969–1972
Весь август 1969 года мисс Д. пребывала в каком-то потустороннем мире. «Она выглядит почти полностью оцепенелой, – писала мне наш логотерапевт мисс Коль, – почти как человек, вернувшийся с линии фронта, как контуженый солдат». За время этого шокового периода, длившегося около десяти дней, симптомы паркинсонизма у мисс Д. усугубились настолько, что она потеряла всякую способность к самообслуживанию и ей постоянно приходилось прибегать к помощи медицинских сестер, чтобы делать элементарные вещи. В конце месяца выраженность симптоматики уменьшилась (хотя и оставалась больше, чем до назначения леводопы), но зато у нее развилась глубокая депрессия. У больной пропал аппетит («Кажется, у нее совсем исчез аппетит, – писала мисс Коль, – а главное, что у нее пропал аппетит к жизни. Раньше она была похожа на факел, а теперь напоминает догорающую свечу. Вы не поверите, какие перемены в ней произошли»), она потеряла в весе двадцать фунтов, и когда в сентябре я вернулся в Нью-Йорк (я отсутствовал около месяца), не сразу узнал в бледной, съеженной и морщинистой старушке прежнюю мисс Д.[40].
До наступления лета мисс Д., несмотря на свою почти полувековую болезнь, всегда оставалась активной и жизнерадостной и к тому же выглядела намного моложе своих шестидесяти пяти лет. Теперь же она не только похудела и стала настоящим паркинсоником, она ужасно постарела, словно за тот месяц, что я отсутствовал, на ее плечи свалились еще пятьдесят лет. Она выглядела как беглец из Шангри-Ла.
Потом мисс Д. много рассказывала о том достопамятном месяце: ее беспристрастность и искренность, мужество и проникновение в суть вещей позволили убедительно проанализировать, как и почему она так себя чувствовала; и поскольку ее состояние (я уверен в этом) имеет общие существенные черты и детерминанты с состояниями других больных после отмены леводопы (хотя, конечно, состояние мисс Д. было намного тяжелее, чем у большинства пациентов – прошлых, настоящих и будущих), то я прерву изложение ее «истории болезни» и представлю читателю анализ ситуации.
Во-первых, мисс Д. подчеркнула крайне тягостное чувство «падения» после внезапной отмены лекарства. «Я совершила вертикальный взлет, – говорила она. – На леводопе я взлетала все выше и выше, чувствовала себя вознесенной на высоту в миллион миль. А потом эта башня рухнула, я упала, и не просто упала на землю, а пробила глубокую шахту. Я провалилась сквозь землю на миллион миль вглубь».
Во-вторых, мисс Д. (как и каждый их моих пациентов, переживших сходные состояния) говорила о недоумении, неуверенности, тревоге, гневе и разочаровании, когда на леводопе дела пошли не так, как того ждали; когда один за другим начали появляться побочные эффекты, которые я – мы, ее врачи – были бессильны предупредить, невзирая на все наши увещевания, ободрения и возню и манипуляции с дозами; и наконец появилось безнадежное отчаяние, когда леводопа была отменена. В этом действии она увидела окончательный вердикт или приговор – нечто, что можно выразить так: «Этой больной дали шанс, но она не использовала его. Мы дали ей чудо, но оно не сработало. Теперь мы умываем руки и предоставляем пациентку ее судьбе».
Был и третий аспект «ситуации» с леводопой, о котором снова и снова упоминала мисс Д. (особенно в своем замечательном дневнике, который она в то время вела и отрывки из которого мне показывала). Это было острое, почти непереносимое усугубление определенных чувств, которые преследовали ее во все время болезни и достигли апогея в последние дни приема леводопы и в период непосредственно после отмены лекарства. Это было смешанное чувство изумления, ярости и ужаса оттого, что такое вообще могло с ней случиться, и чувство бессильной злобы оттого, что она, мисс Д., ничего не может с этим поделать[41]. Но в процесс вовлекаются более глубокие и более угрожающие чувства: «вещи», которые мертвой хваткой вцепились в нее под влиянием леводопы (особенно компульсии грызть и жевать[42]), определенные насильственные аппетиты и страсти, а также определенные обсессивные идеи и образы. Она не могла их отбросить как чисто физические или совершенно «чуждые» ей, ее истинному «я». Напротив, эти проявления ощущались ею в каком-то смысле высвобождением, или выплескиванием, или раскрытием, или признанием очень глубоких и древних составляющих ее существа, чудовищных порождений подсознания и немыслимых физиологических глубин, лежащих еще ниже подсознания, в каких-то доисторических и даже дочеловеческих пластах и ландшафтах, черты которых казались ей с одной стороны очень странными, но столь же таинственным образом знакомыми, как бывают знакомы нам некоторые причудливые сновидения[43].
Она не могла смотреть на эти внезапно открывшиеся ей составляющие ее существа как на нечто чуждое: они обращались к ней соблазнительными голосами сирен, околдовывали, опутывали ее, повергали в трепет, ужасали, наполняли чувством вины и неизбежности наказания, овладевали ею с пожирающей, яростной силой ночного кошмара.
Связанным со всеми этими чувствами и реакциями было и ее отношение ко мне – двусмысленной фигуре, которая предложила ей столь чудесное и одновременно столь ужасное по своему действию лекарство. Я был для нее заблудившимся врачом, двуликим Янусом, который прописал оживляющее, жизнеутверждающее лечение, с одной стороны, и ужасающее, разрушающее саму основу жизни лекарство – с другой. Сначала она смотрела на меня как на спасителя, обещавшего жизнь и здоровье своим сакраментальным лекарством, а потом как на дьявола, который лишил ее и здоровья и жизни, или причинил ей нечто худшее, чем смерть.
В моей первой роли – роли «доброго» доктора – она любила меня. В моей второй роли – доктора «злого» – она с такой же неизбежностью ненавидела и боялась меня. Тем не менее не смела выразить свой страх и свою ненависть, замкнула эти чувства в себе, где они то свертывались в спираль, то раскручивались, как пружины, с небывалой силой, сгущаясь в плотное и темное чувство вины и депрессии.
Леводопа посредством своего удивительного эффекта наделила меня – ее подателя, врача, несущего ответственность за эти эффекты, – слишком большой властью над ее жизнью и благополучием. Наделенный этой святой и одновременно низменной властью, я приобрел в глазах мисс Д. абсолютный и абсолютно противоречивый суверенитет – суверенитет родителей, власти, Бога. Так мисс Д. поняла, что попала в лабиринт проекционного невроза – лабиринт, из которого не было выхода, по крайней мере она его не видела.
Мое первое исчезновение со сцены (3 августа 1969 года) на высоте ее мук и переживаний было пережито ею одновременно и как великое облегчение, и как великая потеря. Ведь это я загнал ее в лабиринт, и разве не у меня была нить, которая смогла бы вывести ее оттуда?
Таково было положение мисс Д., когда в сентябре я вернулся в госпиталь[44]. Я чувствовал, что с ней творится, но не мог внятно объяснить это словами, когда впервые посмотрел на нее по возвращении. Конечно, потребовались месяцы и даже годы, прежде чем мои и ее интуитивные ощущения достигли сознания и стали доступны для оформления их в понятные формулировки, которые я и набросал выше.
Лето 1972 года
Со времени тех событий прошло три года. Мисс Д. все еще жива, неплохо себя чувствует и живет, если, конечно, это существование можно назвать жизнью. Драматизм лета 1969 года ушел в прошлое, дикие превратности того времени с тех пор не повторялись, постепенно становясь неким нереальным, немного ностальгическим сновидением, каким-то уникальным, неповторимым, а ныне почти невероятным историческим событием.
Несмотря на двусмысленность того положения, невзирая на все свои метания, мисс Д. с радостью приветствовала мое возвращение и спросила, мягко и обходительно, не стоит ли подумать о новом назначении леводопы. Напористость и непримиримость исчезли, уступив место терпению и благожелательности. Мне кажется, месяц нереального существования без леводопы стал для нее временем глубоких раздумий, внутренних изменений и очень сложной перестройки под новые условия существования.
Это было, как я понял впоследствии, некое Чистилище, период, в течение которого мисс Д. боролась со своими расщепленными и многочисленными импульсами, используя все приобретенные ею за то нелегкое время знания о себе (и своей странной реакции на прием леводопы), используя всю силу своего ума и характера для достижения нового единства с собой и миром, новой стабильности собственной личности, более глубокой и сильной, чем в прошлом.
Она, если можно так выразиться, несломленной прошла через испытания, выпавшие на ее долю (в отличие от многих других моих пациентов). Мисс Д. оказалась исключительной личностью и необыкновенным человеком, она с честью вышла победительницей из своей почти полувековой борьбы с болезнью и вела самостоятельную жизнь вне стен лечебного учреждения до шестидесяти пяти лет. Я уже видел смысл ее болезни и мощь патологического потенциала, но ее загадочный резерв физического и душевного здоровья стал мне очевиден только после драматичного лета 1969 года и в последующие три года.
Оставшуюся часть истории мисс Д. рассказать легче. В сентябре 1969 года я возобновил ее лечение леводопой, и с тех пор она почти постоянно остается на этом препарате. В случае мисс Д. (как и в случае с другими больными) оказалось, что одновременное назначение амантадина (симметрела) может облегчить некоторые патологические ответы на прием леводопы, хотя мы и отметили, что этот благоприятный эффект иногда сходил на нет после нескольких недель лечения. Поэтому мисс Д. мы проводили прерывистые курсы амантадина, добавляя его к основному курсу леводопы. Мы пытались, в соответствии с изложенными в медицинской литературе рекомендациями, сгладить избыточное психомоторное возбуждение назначением фенотиазинов и бутирофенонов и других больших транквилизаторов, но в случае мисс Д. оказалось (как и в случае всех других пациентов), что они могли лишь ослабить и даже извратить тотальный эффект леводопы. То есть эти транквилизаторы не «различали» желательные и побочные эффекты леводопы подобно многим врачам-энтузиастам. Мы нашли, что малые транквилизаторы и антигистаминные препараты оказывали весьма слабое действие на мисс Д., но барбитураты, особенно парентеральное введение амитал-натрия, стали ценным основным средством купирования тяжелых кризов разного типа.
Ответы на леводопу (или, скорее, на сочетание леводопы и амантадина) были во всех отношениях мягче, чем летом 1969 года. У мисс Д. не было такого сенсационного улучшения, но не было и столь же сенсационных кризов. Паркинсонизм остался на своем месте, но проявления его уже не такие тяжелые, какими были до лечения леводопой, хотя, надо сказать, каждые несколько недель, когда эффекты сочетания леводопы и амантадина становились менее благоприятными, у нее неизбежно происходит ухудшение течения паркинсонизма (и других симптомов), вслед за чем развиваются признаки синдрома отмены (подобные тем, хотя и в более легкой форме, что случались у нее в августе 1969 года), который продолжается приблизительно неделю, пока она не получает амантадин. Этот цикл: улучшение – ухудшение – синдром отмены – повторяется приблизительно десять раз в течение года. Мисс Д. очень не нравятся эти циклы, но она смирилась и привыкла к ним. В действительности у нее просто не осталось выбора, так как если отменить леводопу, она впадает в состояние намного худшее, чем то, от которого страдала до начала лечения этим препаратом. Ее положение таково: она нуждается в леводопе, но переносит ее очень плохо[45].
Кризы у мисс Д. стали более редкими и менее тяжелыми, теперь они происходят не чаще одного-двух раз в неделю, но их можно назвать более примечательными, поскольку они полностью изменили свой характер. Летом 1969 года (так же как летом 1919-го) ее кризы были чисто респираторными, и только потом к ним присоединились многие другие описанные выше феномены. Ее новые кризы отличались большей частотой палилалии, некоторые слова и фразы она непрерывно повторяла по несколько сотен раз, причем это сопровождалось сильным волнением и различными побуждениями, компульсиями, усугублением симптомов паркинсонизма, особенно состояния «блока» или «невозможности» движений, и т. д.
Надо обратить особое внимание на слова «обычно», «различные» и «т. д.», так как, хотя каждый криз был, несомненно, именно кризом, они никогда не повторяли друг друга. Двух одинаковых кризов мы не видели. Более того, конкретный характер и течение каждого криза, так же как и его характеристика как некоего целого и его наступление как единого целого, могло подвергаться необычайной модификации суггестией и особенностями обстоятельств и окружающей обстановки.
Так, сильный аффект, обычно окрашенный гневом или страхом, мог превратиться в веселый и бодрый аффект, если мисс Д. вдруг случалось посмотреть по телевизору веселую комедию, в то время как двигательный «блок», если можно так выразиться, вытекал из одной конечности и плавно перетекал в другую.
Самым лучшим способом воздействия на кризы была музыка; эффект ее мог быть поистине сверхъестественным, а порой даже жутким. Вот вы видите мисс Д. подавленной, зажатой и обездвиженной… или подергивающейся, охваченной тиком и что-то невнятно бормочущей – каким-то подобием человеческой бомбы. Но вдруг, при первых звуках музыки, донесшейся из радиоприемника или проигрывателя, все эти обструктивно-эксплозивные симптомы исчезали как по мановению волшебной палочки, сменяясь благословенной легкостью и плавностью движений, когда мисс Д., внезапно освобожденная от своих автоматизмов, с улыбкой начинала «дирижировать» музыкой или поднималась и кружилась в непринужденном танце. Музыка должна была исполняться непременно в манере легато; музыка в стиле стаккато (и особенно ударные) иногда вызывала ненормальное действие, заставляя ее прыгать и дергаться в такт музыкальному ритму. В такие моменты она походила на заводную куклу или марионетку[46].
К концу 1970 года мисс Д. испробовала на себе леводопу, амантадин, леводопу-декарбоксилазу, апоморфин (все эти лекарства давали ей разными дозами и с разными временными интервалами) – самостоятельно или в сочетании с антихолинергическими, антиадренергическими, антигистаминными и разными другими добавками или блокаторами, продиктованном нашими изобретательностью и предположениями. Она прошла через все это, поняв и приняв лечение. «Вот так! – сказала она однажды. – Вы обрушили на меня всю свою фармацевтику. Я поднималась вверх, падала вниз, уклонялась в стороны, вы загоняли меня внутрь и выворачивали наизнанку. Вы толкали и тянули меня, давили и выкручивали. Я то ускорялась, то замедлялась, иногда становилась такой быстрой, что фактически оставалась стоять на месте. Я открывалась и закрывалась, как мехи концертины в образе человеческом…» Мисс Д. остановилась перевести дух. Поистине ее слова рисовали переживания паркинсонической Алисы в постэнцефалитической Стране Чудес.
К этому времени, однако, мисс Д. уже четко понимала, что леводопа для нее – жизненная необходимость, и стало ясно, что ее ответ на прием препарата стал ограниченным и не столь театральным, и скорее всего таковым и останется. Она осознала, что дело приняло необратимый и непоправимый оборот. Ее решение ознаменовало собой окончание тех гипертрофированных ожиданий, какие она первоначально связывала с леводопой: то было отречение от страстных надежд и желаний, доминировавших в ее жизни более года. Так, ничего не отрицая, ни на что не претендуя и ничего не ожидая (хотя в дневнике она время от времени то в шутку, то всерьез выражала надежду на то, что жизнь все-таки может измениться в лучшую сторону), мисс Д. покончила с фантазиями и обратилась к реальности – то был двойной поворотный пункт, ознаменовавший ее освобождение из лабиринта, в котором она блуждала целый год. Начиная с этого момента, все ее отношения приняли более легкий, здоровый и приятный оттенок. Ее отношение к леводопе стало отстраненным и проникнутым юмором смирением, и таким же стало отношение к собственным симптомам и недомоганиям. Она перестала завидовать пациентам, которые, принимая леводопу, летали как на крыльях, и перестала также с обращенным на себя страхом взирать на больных, плохо переносящих лечение этим препаратом. А еще она перестала видеть во мне спасителя и губителя, держащего в своих дающих лекарство руках ее судьбу. Отрицания, проекции, переносы, идентификации, видимость и жульнический обман «положения» с леводопой отпали и отслоились как хитиновая оболочка, обнажив «старую мисс Д.», ее истинное, первоначальное «я».
Во второй половине семидесятого года мисс Д. была готова и желала обратить свои силы на то, что можно было сделать с ее паркинсонизмом, ее отношениями, возможностью остаться человеком и выживанием в мире, который можно назвать Тотальной Лечебницей[47]. Эти проблемы, вероятно, удалось бы обойти и избежать, если бы леводопа была и осталась совершенным лекарством, исполнив свое обещание, но оно не стало таким, по крайней мере для мисс Д. Теперь она видела леводопу без содранных с нее блестящих одежд, во всей неприглядности и подлинности. Она поняла, что это наиболее полезное, незаменимое, помогающее, но не спасительное средство. Теперь она могла остаться один на один со своими внутренними ресурсами, моими и ресурсами всего нашего госпиталя, чтобы извлечь из оставшихся возможностей максимум пользы[48].
Такими способами мисс Д. приспосабливалась к причудливым превратностям действий и эффектов леводопы и активно меняла болезненные феномены своего паркинсонизма, кататонии, импульсивности и т. д. Но имелись и другие проблемы, которые происходили не от нее самой, но изменить которые было превыше ее сил: это, по сути, проблемы жизни в Тотальном Сумасшедшем Доме.
Эти проблемы, если очертить их в общем виде, были кратко изложены Паскалем в его антимониях, которыми заполнен дневник мисс Д. Это чувство изоляции, чувство заключения, чувство пустоты и чувство ничтожности, чувство заключенного, помещенного в некое общество, но одновременно изолированного от общества. Человека, вынужденного подчиняться бесчисленным уничтожающим правилам и установкам, чувства, что ты сведен до статуса ребенка или арестанта, чувства потерянности или того, что тебя размалывает бездушная и страшная машина; чувства фрустрации, опустошения и бессилия.
Эти бесчеловечные качества психиатрической лечебницы, хотя и существовавшие в какой-то степени с самого основания госпиталя, внезапно стали еще более грубыми и жесткими в сентябре 1969 года[49]. Можно было сразу заметить по поведению пациентов, как эти жестокие новшества повлияли на их клиническое состояние: не просто на настроение или отношение к персоналу, но и на кризы, тики, импульсивность, каталепсию, паркинсонические проявления и т. д., и, конечно же, на реакцию на леводопу[50].
Нет сомнения, мисс Д. сама была в большой степени поражена этими изменениями в ее окружении, однако я не могу категорически судить, насколько неизбежным было влияние лечения леводопой, с одной стороны, и ее индивидуальной, встроенной реактивности – с другой, и насколько неблагоприятные последствия такого лечения были обусловлены нарушениями условий жизни. Могу только нарисовать общую картину, настолько честно, насколько это в моих силах, и оставить право выносить суждения на совести читателя.
Однако безошибочно ясными оказались три обстоятельства. Первое: как только мисс Д. обретала способность выражать свои чувства и изменять свое окружение, уменьшалась выраженность всех ее патологических проявлений. Второе: стоило мисс Д. покинуть госпиталь и выйти на прогулку (которые стали большой редкостью после благословенного 1969 года), как все ее симптомы также уменьшались. И последнее: с тех пор как у мисс Д. установились глубокие и доверительные отношения с двумя другими пациентками из отделения, то есть в начале 1971 года, ее состояние и самочувствие улучшились во всех мыслимых отношениях.
И вот наконец мы подходим к настоящему времени, к лету 1972 года. Мисс Д. по-прежнему получает небольшие прерывистые курсы леводопы и амантадина. Она очень активна, способна обслуживать себя на элементарном уровне девять месяцев в году, в остальные три месяца борется с ухудшениями и симптомами отмены. Два раза в месяц у нее бывает довольно легкий криз, который теперь не беспокоит ни ее, ни ее соседей по палате. Она много читает, вяжет как настоящий профессионал и намного быстрее меня решает массу кроссвордов. Больше всего она становится сама собой, когда разговаривает с подругами. Она сумела побороть раздражительность, упрямство, зависимость и несговорчивость. Она теперь весьма общительна и доброжелательна (за исключением тех моментов, когда в прескверном настроении запирается наедине со своим дневником), и ее любят окружающие. Ее часто можно видеть у окна, кроткую старушку около семидесяти лет, немного сгорбленную, которая быстро вяжет крючком, иногда поглядывая на машины, с ревом проносящиеся по улице.
Она не самая примечательная из наших пациентов, которая бы сказочно хорошо отреагировала на лечение леводопой и успех лечения которой остался бы прочным. Но она сумела пережить давление пожизненной, деформирующей характер болезни; пережить сильное воздействие на мозг мощного стимулятора; пережить пребывание в госпитале для хронических больных, который пациенты редко покидают живыми. Укоренившись в реальности, она с триумфом преодолела болезнь, интоксикацию и помещение в специальное учреждение и осталась тем, кем была всю жизнь – настоящим человеком, человеческим существом в лучшем смысле этого слова.







