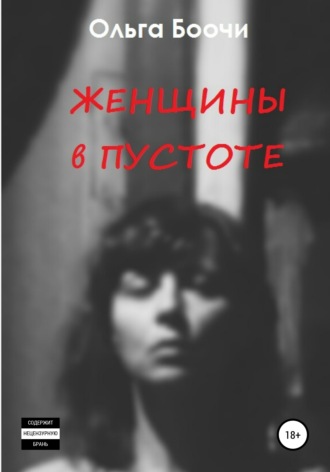
Ольга Боочи
Женщины в пустоте
Глава 7
Я ехала в метро, поставив дорожную сумку у ног.
Я была посреди города с вещами, и это не было похоже на возращение из туристической поездки. Я везла с собой хрупкие домашние неприспособленные вещи – те, которые не должны были бы покидать стен дома. Это казалось мне странным теперь, как будто я только приехала в этот город и была здесь чужой и бездомной, была беженкой и переселенкой.
Это чувство было мимолётным, но мне хотелось удержать его, как иногда раньше порой хотелось удержать последние минуты неподнадзорности и свободы, когда я ехала на одно из случайных своих мест работы, вскоре уже – ненавистных мне, куда я устраивалась и откуда увольнялась спустя несколько месяцев или даже недель; я тогда старалась не думать о том, куда я еду, старалась хотя бы последние минуты, хотя бы немного ещё, в мыслях, побыть свободным человеком.
Теперь я ехала домой.
Большая часть моих вещей ещё оставалась в чужой квартире, и я боролась с желанием бросить оставшееся там. Вещи, казавшиеся мне когда-то нужными, которые я выбирала и покупала, когда мы с А.Д. были вместе, теперь не вызывали во мне ничего, кроме чувства усталости. Я не хотела ими владеть. Я хотела о них забыть.
Поезд мчался через тоннель, в окне, в мелькании огней, я видела своё лицо, неподвижное, застывшее и бледное.
И в детстве, и подростком я была стеснительной и тихой. Молчаливой. Ничем не примечательной, во всяком случае, внешне.
В школе я была незаметна, и в классе на меня никто не обращал внимания, я терялась среди более ярких девушек. Но Якоб этого не знал, ему не было до этого дела. Он считал меня красивой, я ему нравилась. То, что так не нравилось мне во мне самой – кажется, это его как раз и привлекло.
***
Уже тем летом я стеснялась того, что выгляжу скромной.
Потом, в старших классах и после, я тратила много сил, чтобы не выглядеть так просто и блёкло. Скромность и робость казались мне язвами, которые нужно было скрыть во что бы то ни стало.
Я помнила, как два года спустя я познакомилась с тем человеком, врачом, который вскоре стал моим первым мужчиной.
Он мне сразу не понравился, и внешностью, и тем, как он держал себя со мной. У него была какая-то насмешливая и полная лёгкого презрения манера держаться, и я тоже стала насмехаться над ним в ответ. Его это не обижало и не выводило из себя. Помню, мы дошли до какого-то парка. Совсем близко, на соседней аллее, был павильон с напитками и едой, и он, хрустя гравием, направился туда, оставив меня на скамейке. Перед тем как уйти, он сказал, что, наверное, уже не застанет меня тут, когда вернётся. Я, конечно же, собиралась сбежать, но после его слов осталась и дождалась его.
Я не сбежала, как мне кажется, не потому, что он так уж сильно задел моё самолюбие, с лёгкостью разгадав мои намерения. Скорее, в тот момент я играла роль, и эта роль требовала от меня – как мне казалось – такого поведения. Помню, что я смеялась не переставая. Я играла роль легкомысленной и беспечной девушки, должно быть, немного пропащей.
Этого моего смеха, кажется, хватило до третьей нашей встречи, и он тут же бросил меня, как только я перестала смеяться.
Может быть, такое с девушками не так уж и редко случается: когда они притворяются не такими, какие они есть. Эта роль была не единственной, потом я играла другие роли, разные, и совсем не похожие на эту. Даже А.Д., знавший меня совсем недавно и, казалось бы, знавший меня хорошо, считал меня совсем другим человеком, такой, какой я хотела казаться.
Я и теперь постоянно ловила себя на мысли, что не знаю, как должна реагировать даже на самые простые столкновения с реальностью, не знаю, кто я и какая я есть. Словно я всё ещё боялась, что меня разоблачат.
Я смотрела на своё отражение в оконном стекле. Подробностей было не различить, только очень бледное пятно лица, тёмные провалы глаз.
Я подумала: Якоб заметил меня такой, какой я была на самом деле. Какой, наверное, и осталась.
Странно было думать, что я была настоящей, когда была незаметной, молчаливой и блёклой, такой, какой я себя так не любила; странно было думать, что это не противоречит моей природе, как я считала долгие годы потом. Скорее, хотела считать, чем считала на самом деле – стоило признаться себе в этом наконец.
Можно было, наконец, перестать бороться с собой.
Глава 8
Листья – ещё зелёные, когда я выглянула из окна нашей комнаты в день своего возвращения домой – начали желтеть, и осень за последние дни заметно повернула к холодам.
Я слышала, что моя мать на кухне, слышала звуки телевизора.
Я отошла от окна.
Эти две недели были похожи на бесконечный парный танец – существование вместе с другим человеком на тесном отрезке пространства.
Моя мать, мне казалось, была рада моему возвращению и старалась освободить для меня место, сделать так, чтобы я не чувствовала здешней тесноты. И тем не менее я всё время невольно знала, где находится и что делает моя мать, краем сознания отмечала её перемещения, подстраивалась под её дневные ритмы, находилась с ней в постоянном, непрерывном взаимодействии, которое не прерывалось, даже если мы молчали. Даже когда кто-нибудь из нас спал.
От этого танца порой можно было сойти с ума, даже если человек знаком тебе с детства, и ты привык к нему ещё тогда, в те годы.
Теперь я чувствовала себя слишком большой, слишком чужой для этого дома. Я словно бы не влезала в него.
Иногда я выходила в город без всякой цели или брала с собой работу, чтобы делать её где-нибудь вне дома – в читальном зале библиотеки или в кафе соседнего торгового комплекса, где можно было часами сидеть с одной чашкой кофе, не привлекая к себе внимания; иногда я сидела в кафе с открытия до начала дневного наплыва людей, даже и вовсе ничего не заказывая. Денег у меня почти никогда не было. Эти скитания по району и по городу, эта неприкаянность, напоминала мне мои школьные годы, когда я пропускала занятия или просто не хотела возвращаться домой и часами без цели бродила по улицам.
Я подолгу бродила по городу и тем летом. Кажется, пешая ходьба стала для меня своеобразной формой жизни, я жила в движении, перемещаясь по городу в произвольных направлениях, согласно интуитивным маршрутам, и на ходу думала, мечтала, даже сочиняла что-то. Пространством я отмеряла время, и мои передвижения по городу, кажется, не имели иной цели; больше мне некуда было себя деть, и я растворяла себя в движении.
Когда я повстречала Якоба, я тоже совершала движение по одному из своих бесконечных маршрутов. Я шла, и это было моё обычное состояние, это больше нельзя было даже назвать занятием.
Глава 9
Иногда чтобы прояснить для себя что-то, мне нужно было созреть. До определённого момента я могла жить иллюзией, пребывать в иллюзии, даже отчасти сознавая, что это иллюзия, но не стремясь прояснить ситуацию для себя. Потом, в какой-то момент, желание знать правду перевешивало.
Я зашла в торговый комплекс, поднялась по эскалатору и села за один из свободных компьютеров, стоявших в коридоре перед освещённой витриной книжного магазина. Снаружи лил дождь, по тротуарам стекали потоки воды, машины со включенными фарами неслись сквозь дождливые сумерки, поднимая фонтаны брызг. Пока я шла сюда, дождь промочил меня насквозь.
Я оплатила полчаса и вышла в интернет.
За соседними компьютерами несколько мальчишек, здешние завсегдатаи, играли в компьютерные игры; до меня долетали звуки стрельбы и стук их пальцев по клавиатуре, но между собой они не разговаривали, кажется, они были полностью поглощены игрой.
Кажется, долгое время, почти втайне от самой себя, я думала, что Якоба могли посадить из-за меня. Может быть, мне нравилась эта мысль, может быть, она мне льстила, и я не слишком стремилась выяснить правду. Задним числом это казалось не столь уж важным. Может быть, подспудно я боялась разочарования.
Кроме того, не думаю, чтобы мне часто за все эти годы попадался в руки уголовный кодекс.
Так или иначе, правда разочаровала меня даже сильнее, чем я могла ожидать.
Уголовный кодекс всё называл своими именами. Мой возраст в тот год был «возрастом добровольного согласия»; я наконец произнесла и другие слова: «интимные манипуляции» – так называлось то, что было между нами, он «склонял меня» к интимным манипуляциям. Я подумала: всего лишь один случай из многих и многих между взрослыми мужчинами и несовершеннолетними, будь то юноши или девушки; девушки чаще.
Но как бы это ни называлось, в этом не было ничего подсудного.
Мне было достаточно лет, и это не было насилием.
Я подумала: всё правильно. Я тогда даже не чувствовала себя ребёнком, я чувствовала себя женщиной, я не считала себя жертвой.
В коридорах торгового комплекса гуляли сквозняки, стыли промокшие ноги. В углу экрана мигали цифры: моё время закончилось; я встала из-за стола.
За окнами молчала ночь.
Около четырёх утра, оторвавшись от монитора, я посмотрела в окно. К соседнему дому, беззвучно мигая огнями, подъехала скорая. Я потёрла ладонями лицо, глаза болели от напряжения. Машина скорой помощи стояла у подъезда, мигалки были включены, но никто не выходил. Это было похоже на фильм без звука.
Надо было лечь спать, но я не находила в себе силы выключить компьютер, погасить свет и остаться наедине со своими мыслями.
Всё казалось мне теперь неприятным, банальным и обыденно-страшным.
Я даже не понимала, почему для меня это было важно.
В какой-то момент, я помню, он сказал, что накануне весь вечер думал. Я посмотрела на него с тревогой, и он добавил – о разнице в возрасте. Он сказал, что долго сомневался, но потом подумал, что будет ещё нестарым, когда я вырасту, и потому решил, что делать выбор должна я.
Кажется, в ответ я лишь пожала плечами; это было в самом начале нашего свидания.
Я вдруг подумала теперь (и это была неприятная, пачкающая мысль): может быть, он не думал в тот вечер, а выяснял? Может быть, он всё это выяснил ещё тогда, в тот вечер, и только потому и решил продолжить это дело со мной? Потому что знал точно – ему ничего не будет.
Я взяла тетрадку, пролистала назад, потом вперёд. Всё тот же почерк, всё те же детские глупости.
Закон – поправка к закону, о которой я прочитала – действовал четыре года, потом возраст добровольного согласия снова был повышен.
Когда поправка была отменена, мне было уже восемнадцать лет. Я была взрослая. Всё было уже не важно.
Теперь я сама была взрослой и знала, что даже этого порой недостаточно, чтобы сопротивляться давлению.
Я выключила компьютер, погасила свет.
Я не любила чувствовать себя жертвой, может быть, поэтому прочитанное произвело на меня такое тягостное впечатление. Я плохо чувствовала себя в ряду жертв. Я хотела выйти из этого ряда.
Я подумала: жертве нужна защита. Вряд ли у меня в то время была защита.
Глава 10
С матерью мы жили всегда довольно замкнуто. Кажется, у неё не хватало ни сил, ни желания ходить в гости или принимать гостей у себя. Когда она приходила с работы, она затворяла за собой дверь во внешний мир. Казалось, даже говорить по телефону было для неё непосильной работой, и к телефону в нашей квартире обычно подходила я.
Если звонил кто-нибудь из её подруг, я говорила, что моей матери нет дома, но иногда я всё-таки передавала ей трубку: до конца я всё-таки не могла поверить, что она совсем не хочет с ними общаться. Потому что сама я тосковала по друзьям.
Тем не менее, думаю, мне лишь в самом раннем детстве приходилось объяснять, почему к нам никто не приходит, почему к нам не ходят гости; позже я каким-то образом сама находила этому оправдания, думаю, постепенно запрет этот стал идти уже изнутри, стал частью меня самой.
Мне казалось, моя мать всегда была уставшей, и, когда я смотрела на своих друзей словно бы её глазами, я почти ненавидела их – такими шумными, такими праздными, такими бесчувственными и злыми они мне казались.
Я не могла привести их в наш дом.
Казалось, и меня одной для этого дома было слишком много.
Физически я даже в детстве была слишком большой, занимающей слишком много места в пространстве, по сравнению с матерью. Она всегда была хрупкой, кажется, в этом я пошла не в неё: во мне было слишком много плоти. Я думаю, я ощущала это тогда как физическую неуместность своего тела, и это было похоже на чувство вины.
Были годы, когда я завидовала тем детям, у которых были жестокие и властные родители, от таких, мне казалось, можно было как-то защищаться, от них можно было сбежать. Но невозможно было защищаться от того, кто на меня не нападал. Кто делал всё для меня и просто был несчастлив рядом.
Даже теперь я не решилась бы спросить у матери о её личной жизни в те годы; была ли она у неё? Своего отца я совсем не помнила. Я не помнила даже, чтобы когда-нибудь я спрашивала её о том, кто был мой отец и почему его с нами нет. Каким-то образом я знала только, что он жив и что о нём не надо задавать вопросы. Эти вопросы слишком смутили бы нас обеих.
Наверное, могло сложиться впечатление, что у нас с матерью не было близких отношений, но на самом деле это было бы неправдой. У нас были близкие, дружеские отношения, и раньше мне казалось, что мы с ней говорили обо всём на свете. Но получается, что о многом мы всё-таки не говорили.
Я вспомнила вдруг странный и дурацкий случай из того нашего времени. В двенадцать лет, за два года до истории с Якобом, меня отправили в летний детский лагерь – в первый и последний раз.
По случайности именно там у меня в первый раз – довольно рано для моего возраста, и совсем неожиданно для меня – начались месячные. Думаю, я даже не сразу поняла, что это такое. С удивлением я обнаружила, что, кажется, была единственной в отряде девочкой, которой мать не сунула в сумку прокладки "на всякий случай". Всё закончилось хорошо: мне разрешили не ходить на утреннюю зарядку, кто-то из девчонок в моей палате с долей зависти отдал мне свою упаковку прокладок, и пару дней подряд моё самочувствие интересовало всех вокруг.
Когда за мной в конце смены приехала мать, я тут же ей об этом рассказала. Мне кажется, что я и выложила матери эту новость вот так, с ходу, только потому, что отвыкла от дома, практически одичала за время этой смены в лагере, впервые уехав из дома так надолго.
Вместо ожидаемого весёлого переполоха, похожего на тот, что случился среди девчонок и вожатых в моём отряде, когда у меня они вдруг «пришли», я тут же ощутила густое смущение, повисшее между мной и матерью.
Гигиенические средства мне с тех пор регулярно покупались, но больше мы об этом не говорили.
Долгое время, должно быть, примерно до этого возраста, я ничего от матери не скрывала.
Когда у меня, наконец, появилось то, что нужно было скрывать, – я стала писать об этом в дневнике.
У нас по-прежнему царил мир. Я не лицемерила и почти не притворялась. Но всё тревожащее, всё волнующее и всё, что было мне в то время по-настоящему дорого, я переносила в свой параллельный мир. Прибавляла к тому, о чём мы никогда не говорили.
Мне казалось, что только за счёт этого я и существую как отдельная единица. Я старалась наполнить этот свой параллельный мир, чтобы он не исчез, чтобы его створки не схлопнулись, как створки раковины. Эта сфера невысказанного словно бы стала моей единственной защитой от исчезновения. От растворения в том, что называлось «мы».
***
Теперь всё это давно было в прошлом.
Но, возможно, для меня прошлое так никуда и не ушло.
Один французский философ считал, что жизнь непрерывна и что человек в каждый момент своей жизни представляет собой сумму того, что он пережил, является живой совокупностью своего опыта, своей эволюции, и «прошлое» является той материей, из которой он состоит. Из этого положения он делал интересные выводы, но главное – этот философ тоже считал, что прошлое никуда не уходит.
Мне кажется, я никогда раньше даже не пыталась преодолеть последствия своего детства, по-настоящему оставить его позади, стать независимой от него.
Долгие годы, мне кажется, я старалась просто не быть собой, отбросить себя полностью и быть другим человеком.
Теперь я снова вернулась в этот дом. Это было поражение, в каком-то смысле я была сломлена теперь, раз вернулась сюда. В моей жизни не было сейчас ничего. Как река, моя жизнь словно бы временно пересохла, и, наверное, поэтому я так глубоко погрузилась теперь в воспоминания о событиях, которые произошли очень давно.
Возможно, я искала в Якобе зеркало, потому что он был первым мужчиной, который увидел, заметил меня. Возможно, я надеялась, что это зеркало отразило меня ещё до того, как я изменилась, до того, как я стала стараться быть кем-то другим.
Я подумала: но, может быть, Якоб и не видел меня.
***
Я откинула волосы со лба. Не так давно, в течение одной недели, в зеркале я нашла у себя несколько седых волос, их было всего несколько, три или четыре, и их стальной блеск был даже красив, но меня всё равно парализовало ужасом.
Я едва приближалась к возрасту Христа, я не могла начать седеть, пугаться было рано – в этом я могла себя убедить. И всё же это были далёкие позывные, первые вестники того, что я не вечна, что и мой срок кто-то где-то отсчитывает и что когда-нибудь, совсем скоро, этот срок истечёт.
Мне казалось, я чувствовала в себе онемелость – высшую степень оформленности; и незаметно эта онемелость словно бы переходила в неподвижность, в каменность. В невозможность сдвинуться с места.
В невозможность заново прорасти ростками во внешний мир.
В какой-то степени теперь я чувствовала в себе способность любить гораздо большую, чем когда-либо. Однако это тепло словно бы уходило вглубь, становясь тайным жаром, вместо того, чтобы проявляться вовне. В это же время снаружи, я чувствовала, мне становилось всё труднее выносить чужих людей. Людей вообще. Всё труднее становилось приспосабливаться к ним.
Я каменела.
Та же «усталость», что когда-то завладела моей матерью, просочилась и в меня. Я теперь понимала свою мать. Я не чувствовала в себе сил начинать всё заново. Я чувствовала, что от меня осталось совсем немного.
Я, конечно же, выдернула те седые волосы, и с тех пор они больше не появлялись, но, очевидно, начало конца было положено. Жизнь истекала, молодость истекала.
Может быть, ещё и поэтому я вернулась теперь в этот дом.
Глава 11
Когда-то в детстве у меня была книга – должно быть, это была книга немного «на вырост», – и в ней, в качестве предисловия к прозаическому переложению «Илиады» и «Одиссеи», была статья о Шлимане и его авантюрных раскопках Трои.
В те годы я часто болела, меня постоянно водили к врачам, и я помню, как читала эту книгу, сидя на банкетке в полупустом коридоре поликлиники рядом с открытым окном, в которое лился солнечный свет и залетали порывы ветра. Я добросовестно прочитала вступительную статью и мне хорошо запомнилось, как Шлиман, копая жадно и спеша добраться до нижних слоёв археологического памятника, где он предполагал найти гомеровское поселение, смёл, не обратив на неё внимания, ту самую Приамову Трою, которую искал, и которая, как оказалось, залегала значительно ближе к поверхности. Я помнила, что эти археологические слои были помечены римскими цифрами, которые я уже знала, и что разрушенный Шлиманом слой гомеровской Трои носил название Троя VII.
Теперь я словно бы сама для себя стала тем Шлиманом, который разрушил свою Трою. Мне казалось, что моя Седьмая Троя погибла безвозвратно. Фреска осыпалась.
Я уже не могла вспомнить ни интонаций голоса, ни лица Якоба, не помнила даже своего впечатления от них, кажется, я уже не смогла бы даже отличить настоящие воспоминания от ложных, от фантазий, которые разрастались всё это время на их почве.
В каком-то секундном прозрении я вдруг увидела: вспоминать – это, всегда, разрушать.
Тот пласт времени в моей памяти был разрушен. Слои перемешались. Картина погибла. И только теперь, когда она погибла, стало очевидно, как бережно я хранила её все эти годы.
Наваждение того лета отхлынуло как море, оставив на песке мусор и мёртвых животных.
Однако я почему-то не могла оставить эту историю, не решив для себя последний вопрос.
Глава 12
Однажды, в другое время и в другой книге, в рассказе одной из поэтесс серебряного века, я прочитала, что человек несёт моральную вину за преступление лишь в том случае, если он сам в своём праве "усомнился" – и, значит, всё решает внутреннее сознание вины, то, сомневался ли человек в своём праве поступать так, как он поступил.
С Якобом мы так долго шли в тот день через парк внутри кремлёвской стены, а потом спускались по склону к реке, что многое успело произойти за это время – будто целая жизнь прошла, и мы с Якобом, войдя в ворота парка чужими людьми, мужчиной и девушкой, у которых было довольно формальное первое свидание, спустились, наконец, к реке, вышли из-под тени деревьев на залитый солнцем тротуар нижней набережной, став другими – взрослым женихом и его юной невестой, мы были вместе. Как будто время внутри парка, внутри кремлёвской стены, текло по-другому, и внутри прошло гораздо больше времени, чем снаружи.
Только на набережной наше свидание снова потекло так, как ему и было положено, и мы вернулись к разговору, может быть, даже впервые начали его, потому что приблизиться друг к другу среди слов и понятий, на вербальном уровне, нам было намного сложнее. Здесь между нами по-прежнему была пропасть.
Мне казалось, я помнила теперь, как Якоб сказал: "Четырнадцать? Ты говорила, что тебе пятнадцать?"
"Нет, я этого не говорила. Мне четырнадцать," – ответила я.
Он предположил, что, возможно, мне скоро будет пятнадцать.
Я ответила, что нет, и мне в июле, месяц назад, только исполнилось четырнадцать.
Если память теперь не подводила меня, получалось, что даже тогда он ещё ничего обо мне не знал. Может быть, накануне он думал, что я старше, может быть, думал даже, что мне скоро исполнится шестнадцать.
Теперь, когда я думала и думала об этом, словно бродя по кругу, это напоминало математику, алгебру: четырнадцать лет минус второй день, пятнадцать лет – плюс первый. Я теперь без конца что-то подсчитывала. Был ли он виноват? Ощущал ли свою вину?
Я знала свою тетрадку теперь наизусть – этого разговора, этих слов, там не было, и, значит, они сохранились лишь в моей памяти, а памяти своей я теперь не доверяла. В конце концов, прошло много лет, и ничего из этой истории я не старалась запомнить специально.
***
Мне казалось, это было.
Мы сидели на набережной, и он спросил: «А что твоя мама скажет, если я приду и скажу ей?..» Я не помнила его точных слов: «что я твой жених…»? «что мы с тобой встречаемся…»?
Я ответила не сразу.
Нещадно палило солнце. Набережная в том месте, где мы сидели, казалась необитаемой; речные причалы были далеко в стороне, и над нами на крутом склоне нависала часть стены городского кремля – в те годы наполовину разрушенная и заброшенная. Над широким проломом в ней высились заросли борщевика. В этом городе, мне запомнилось, были многие километры широких и безлюдных набережных, вдоль которых тянулись здания неработающих фабрик, казарм, и отвесные горы незастроенных склонов. Мы сидели с Якобом у самой воды, перед нами синела водная пустыня, и только далеко за рекой тянулось зелёной полосой затопляемое, тоже необитаемое, заречье.
Якоб снял рубашку, и тогда я увидела на его теле те самые рваные шрамы. Мне было жарко в моей одежде, но я стеснялась себя и не соглашалась снять даже жилет, который был на мне.
То, что Якоб заговорил о моей матери, о том, чтобы приехать к нам, вызвало во мне знакомую по детству панику. Я, наверное, пришла бы в ещё больший ужас, если бы могла принять его слова всерьёз.
Но, очевидно, я ему не поверила.
Я сказала, что всё, наверное, будет нормально. Это была ложь, но раз лгал он, то ничто не мешало мне подыграть ему в этой игре. Это была словно бы иллюзия того, что мы вместе, и говорим о совместном будущем. Мне ничего большего и не нужно было.
Во мне наконец кто-то видел женщину, больше того – присутствие рядом мужчины словно бы впервые делало из меня женщину, что-то большее, чем просто «я», к которому я привыкла, – и я не мешала ему рассуждать о детях, и о годах, что пройдут к тому времени, когда я закончу учёбу. Я была почти уверена в том, что он пытается меня обмануть, но это не обижало меня. Скорее, я воспринимала это как условность, часть игры, и готовилась к тому, что в нужный момент я просто должна буду дать ему отпор. Наверное, смутно я представляла себе этот миг как момент, когда Якоб сорвёт с себя маску и его настоящие намерения сразу станут ясны и очевидны.
Когда он заговорил о моей матери, быть может, во мне шевельнулось сомнение, но слова его звучали слишком неправдоподобно, правдой они быть не могли, и я лишь утвердилась в мысли, что он считает меня совсем глупой.
Всё это никак не влияло на моё отношение к Якобу. Я не думала о нём ни лучше, ни хуже, чем до этого. Наверное, я воспринимала это как норму, как естественное распределение ролей. Ему незачем было ждать именно меня столько лет, когда вокруг было много других женщин. Я это понимала, и мне казалось только, что он напрасно заходит в своей игре так далеко.
Я провела рукой по лицу. Часто мне казалось теперь, что сердце не даётся человеку с рождения, не формируется во внутриутробном периоде, а мучительно и долго растёт в человеке всю жизнь, постепенно подпирая и вытесняя к окраинам всё остальное. Я вспоминала теперь себя в то лето, и мне казалось, что сердца у меня не было вовсе, и там, где оно выросло и отяжелело потом, было тогда ещё пусто и легко.
Я смотрела в тот день на реку и дышала легко и свободно, огромными лёгкими, которые ещё ничто не подпирало, не прижимало к рёбрам, не вдавливало в рёбра.
Потом я снова вспомнила те выходные на даче у родственников, словно провал во времени, временной зазор, между этой, далёкой теперь, пятницей на набережной и тем понедельником, когда я не пришла на нашу следующую встречу.




