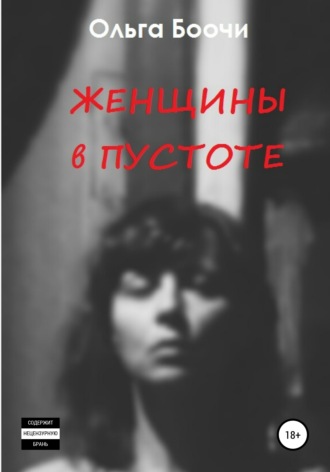
Ольга Боочи
Женщины в пустоте
ПЯТАЯ ТРОЯ
Глава 1
Должно быть, с одинокими людьми это иногда случается: без всякой причины они начинают вдруг вспоминать человека из прошлого, и эти воспоминания вспыхивают в них с такой силой, что перестают быть просто воспоминаниями. Однажды я читала, что и вовсе не бывает воспоминаний, как таковых. Человек заново проживает давнюю историю, проходя прежними путями шаг за шагом, и заново чувствует всё то, что чувствовал тогда.
В четырнадцать лет (четырнадцать мне исполнилось за месяц с небольшим до этого) я познакомилась с мужчиной. У нас было лишь одно свидание, и после этого мы никогда не виделись. История достаточно короткая, и одной ночи хватило бы с лихвой, чтобы вспомнить всё, даже со всеми подробностями.
Теперь уже я не помнила лица этого мужчины, помнила только своё впечатление от этого лица, от его внешности в целом.
Он тогда показался мне некрасивым и старым, старше того возраста, который он назвал, но я помню также, что всерьёз меня это не отталкивало и вряд ли хоть что-то для меня решало. У него была неровная пористая кожа на щеках и плохие зубы. Тёмные, почти чёрные, невыразительные глаза. В волосах Якоба, как его звали, была, кажется, седина; или, может быть, так мне представлялось теперь потому, что с тех пор я не раз видела вблизи головы с волосами похожего цвета и порой замечала в них седину, чаще незначительную, отдельные волоски, которые в светлой шевелюре были бы почти незаметны.
Он сказал мне, что недавно попал в автомобильную аварию, и просил меня идти медленнее. Это мне не понравилось, я не любила медленно ходить и потому не увидела в его просьбе ничего, кроме желания как-то ограничить мою свободу.
На его теле были шрамы – я увидела их потом, когда на набережной он снял рубашку, – шрамы были странной формы, неаккуратные, рваные и багровые, но мне было неловко, и я не решалась их рассматривать. Тело его, как и лицо, не было красивым, но оно было вполне мужским.
К тому моменту, когда я увидела его без рубашки, незадолго перед этим, он уже прижимал меня к себе, силу его рук я уже чувствовала, и потому его тело меня не отталкивало, я лишь немного отвлечённо сожалела, что он не выглядит красивее. Собственные несовершенства занимали меня в тот момент куда больше.
Это было всё, что я могла теперь вспомнить, я не разглядывала его тогда, не старалась запомнить, и потому не было никакой возможности сейчас увидеть его лучше, разглядеть больше, чем я захотела увидеть тогда.
За эту первую ночь воспоминаний я заново пережила всё, что помнила. Пережила так ярко, что мне не захотелось возвращаться к действительности.
Весь следующий день я была словно не в себе. Но уже к вечеру воспоминания начали остывать и блекнуть со стремительной быстротой. Изображение выцвело и стало неживым, история была отторгнута, будто произошла с кем-то другим, но я не хотела её отпускать.
***
Моя неспособность справляться с чувствами всегда казалась мне катастрофичной. Если приходили чувства, то они захватывали меня целиком, и я не могла уже сосредоточиться ни на чём другом; я распадалась на части и мне приходилось бороться с собой, чтобы выполнять даже простейшие ежедневные обязанности.
К счастью, я всегда была скорее человеком рассудочным и влюблялась, как мне кажется, всего раз или два за всю мою жизнь.
Наверное, по этой же причине я не любила кино.
Эмоционально я не успевала за развитием сюжета в том времени и с той скоростью, в котором фильм был снят. Всё было чересчур: слишком много событий, слишком сильные и грубые чувства, сам визуальный ряд, который я воспринимала как агрессивный. Я испытывала что-то похожее на перегрузки, и если я не могла ставить воспроизведение на паузу, то быстро уставала от фильма и переставала его смотреть.
Читать и писать я всегда любила больше.
Когда-то очень давно, задолго до окончания школы и поступления на филологический факультет, я вела дневники; первую тетрадь я начала, должно быть, лет в двенадцать. Но лишь в тот момент, когда я встретила Якоба, у меня наконец появилось, о чём в ней писать.
Ни переход в новую школу (я потеряла целый год, фактически я была в тот момент второгодницей и ужасно этого стеснялась), ни бытовые мелочи из моей домашней и школьной жизни не были, конечно, тем самым, о чём мне хотелось бы рассказывать. Дневник словно подразумевал записи о другом, о сердечных переживаниях, подталкивал к ним, и описывая, довольно подробно, свою жизнь день за днём, я словно бы сама себя ежедневно отвлекала от того, что в моей жизни пока ничего не происходит.
За годы юности у меня накопилось довольно много исписанных тетрадей; я всё ещё изредка, по привычке, тянулась к ним теперь, если и не физически, то мысленно – к знакомой полке и к ящику стола, где они лежали, как тянулась иногда за книгой или словарём, что были у меня когда-то в юности и были тогда привычны.
Протягивая к ним руку, я нащупывала теперь ладонью чужой стол и утыкалась взглядом в чужие полки и этажерки. Это до сих пор рождало во мне кратковременную пространственную растерянность, иногда проходившую так быстро, что я не успевала уловить её и зафиксировать в сознании.
Я словно шарила рукой в пустоте, не в силах дотянуться до собственного прошлого.
И дневники, и мои старые книги хранились в доме моей матери, на другом конце города, доступ к ним не был для меня перекрыт, но город этот иногда казался огромным, как море, особенно для этого бессознательно-привычного движения руки, которая не находила того, что искала.
Глава 2
Я просыпалась одна.
Я никак не могла привыкнуть к тишине, и меня преследовало ощущение, что сюда вот-вот должен кто-то прийти, кто-то, кто имеет на эту квартиру больше прав, чем я.
Я вставала и решала, чем я займусь сегодня, как я распланирую свой день. В отсутствии общения, обмена планами на день, как это обычно бывает между людьми, когда они живут с кем-то, планы эти словно бы не могли до конца оформиться. Для того чтобы обрести реальность и вес, им необходимо было хотя бы простое звуковое оформление, но в этой квартире я с трудом заставляла себя преодолевать тишину даже наедине с собой, словно молчание здесь было вязким, а мне самой недоставало плотности, чтобы победить тишину, скопившуюся среди чужих стен и чужих вещей за долгие годы.
В этой квартире я чувствовала себя самозванкой; быть может, так было потому, что все переговоры с хозяевами вёл в основном А.Д., и это его имя стояло в договоре. Хозяева знали, что теперь здесь живу я, и что А.Д. здесь больше не живёт, но мне всё равно не хватало чего-то существенного для ощущения своей легитимности; я чувствовала себя так, будто вселилась сюда самовольно, словно я не имею права жить здесь.
Может быть, я не готова была жить одна. Или, может быть, мне следовало найти другую квартиру, где было меньше воспоминаний. О последнем, впрочем, речь не шла, средств для поиска жилья у меня всё равно не было.
Так, вздрагивая от звуков, в ожидании того, что кто-то должен прийти, позвонить в дверь или открыть дверь своим ключом, я готовила себе завтрак и пила кофе.
После завтрака день кое-как сдвигался с мёртвой точки, и в течении дневных часов я почти не замечала квартиру, молчавшую вокруг меня. Нужно было закончить редактировать текст, нужно было сделать какие-то бытовые, житейские вещи. Часто бывали дни, когда я за весь день ни разу не нарушала молчания, не произносила ни единого слова, обращённого к другому человеку, ни лично, ни по телефону, ни в переписке даже, и день, не озвученный, ничем не отмеченный, не отграниченный от других дней, так и заканчивался, проваливался в небытие.
Мысли возвращались вечером, в тот момент, когда я ложилась спать. Этот момент тоже был произвольным, я могла ложиться спать, когда захочу, время моего отхода ко сну никак не зависело от внешних причин, ничем внешним не было обусловлено, и эта свобода сама по себе каждый раз напоминала мне о той странной, тоже никакой причиной не вызванной, изоляции, в которой я оказалась.
Глава 3
Может быть, детские дневники были лишь предлогом приехать сюда. Я поднялась по лестнице и остановилась перед знакомой дверью.
Я знала, что моя мать на даче и дома никого нет. Я открыла дверь своим ключом и вошла. Воздух в квартире был неподвижен, окна занавешены и наглухо закрыты.
Коробка с моими тетрадями и блокнотами была в комнате, на шкафу, на самом верху, под потолком. Когда я доставала её, на меня посыпалась меловая пыль, и я вспомнила, что потолки здесь так и остались белёные мелом.
Кажется, мать за все эти годы ни разу не притрагивалась к этой коробке, такой ровный слой пыли её покрывал. Да она и не стала бы читать. Иногда мне казалось, что мать никогда не читала моих дневников из чувства самосохранения, чтобы вдруг не узнать обо мне что-то такое, чего нельзя будет просто забыть. Чего-то, с чем она не сможет справиться.
Я поставила коробку на пол и осторожно, чтобы не поднять облако пыли, открыла её.
Ту тетрадку я узнала.
Почерк был забытый, незнакомый и старательный – таким он казался мне пару мгновений, потом я его вспомнила.
Я пролистала тетрадь до конца. Мелькали вырванные из контекста фразы, и с опозданием на мгновение я вспоминала, о чём я тогда писала, о чём шла речь. Это было похоже на плохую видеозапись, где картинка запаздывает, не совпадает со звуком.
Страницы были выгоревшие, как у тех книг, что читаются летом на пляже. Тем летом я много бродила по городу и часто писала, сидя на набережной или на смотровой площадке в городском кремле. Но о Якобе, я помню, я писала ночью, на кухне моей тётки.
Я едва дождалась тогда, чтобы все в доме легли спать. Кажется, на той ночной кухне я впервые и пережила по-настоящему то, что произошло днём в кинотеатре – в одиночестве, на чужой кухне, когда никто, даже сам Якоб, мне больше не мешал, не наблюдал за мной, и я могла быть собой.
Я положила тетрадь в сумку и задвинула коробку обратно на шкаф. Я была вся в белой пыли, но, оглядевшись вокруг, я не увидела следов, которые выдавали бы моё посещение.
Обстановка была бедной, всё было потёртым и изношенным – только живя здесь, как я в юности, можно было этого не замечать. Отчего-то мне не хотелось, чтобы мать догадалась о моём посещении, словно я боялась, что она каким-то образом может снова меня сюда затянуть.
Глава 4
Думаю, что примерно лет в четырнадцать, а может, годом раньше или позже, я как раз прочитала тот самый роман русского писателя-эмигранта, что оставил человечеству в наследство само слово «нимфетка», но ни тогда, ни после, у меня не возникало сомнений в том, что я нравилась Якобу как женщина, а не как красивый ребёнок.
Моих фотографий тех лет у нас дома не было, первые снимки, после детских, относились ко времени несколькими годами позже, и, насколько я понимаю, на них я была уже совсем другая. Поэтому я могла лишь примерно представить себе, как выглядела тогда, могла лишь вспомнить, какой сама себя тогда считала. Я не нравилась себе.
Потом, впоследствии, я сильно похудела и больше, кажется, никогда не давала воли своему телу, но в тот год моё тело менялось слишком быстро, и я, сознательная часть меня, не успевала за этими изменениями. Должно быть, в то лето я выглядела такой, какой меня задумала природа, и моё тело было скорее женственным и мягким, скорее женским, чем девичьим. Разве что кисти рук и лодыжки мои были тонкими и худыми, ими я была довольна, ими я могла гордиться.
Со всей прямотой, на которую он, кажется, был горазд, Якоб мне сказал, что у меня «есть всё, что нужно» и что он считает меня очень красивой девушкой.
На комплименты он вообще не скупился, я и половине его слов не верила.
Мне казалось, он был бы только рад, если бы я была старше. Возможно, в его глазах я даже выглядела старше, была почти взрослой девушкой.
***
Он был ещё чужим для меня человеком, он сидел напротив меня со своим тёмным лицом и чужими, разглядывающими, глазами. Мне казалось, я даже теперь помнила, насколько чуждым он был мне в тот момент – посторонний взрослый мужчина, задающий вопросы.
Он задавал мне вопросы, и эти вопросы, даже самые невинные, смущали меня, кажется, я невольно старалась ответить на них правильно, и, казалось, не всегда угадывала. Он слушал придирчиво и критично, словно был не столько поклонником, потенциально «влюблённым» в меня, сколько взрослым человеком, мужчиной, слушающим детские или, быть может, женские глупости.
Ещё я хорошо запомнила анекдоты. Я не любила анекдоты вообще: мне казалось, что их рассказывают друг другу люди, когда им совсем не о чем говорить, – но анекдоты, которые рассказывал мне он, были к тому же грубы и неприличны. Ни один взрослый, из тех, кого я знала, не стал бы рассказывать мне такие истории, и они меня шокировали и даже оскорбляли. Я не понимала, как должна реагировать на них, но я не решалась уйти и не решалась даже сказать ему, что мне это не нравится.
Возможно, он понял это сам, потому что я не помню, чтобы во вторую нашу встречу он рассказывал мне такое снова. Я не исключала даже, что он таким образом проверял меня, пытался определить, к какой категории женщин меня можно отнести. Возможно, приличные женщины и не должны были смеяться на этими анекдотами. Хотя я не исключала также, что ему самому они нравились, были вполне в его вкусе.
Я не помню, о чём он спрашивал меня до этого, должно быть, ни о чём серьёзном. Потом он сказал: "Можно задать тебе нескромный вопрос?"
Я ответила: «Отвечать обязательно?» Или, может быть: «Я должна буду отвечать?»
"Желательно", – сказал он.
Я кивнула, и он спросил, был ли у меня кто-нибудь, был ли у меня уже мужчина.
Наверное, я могла бы ответить, что это его не касается. На самом деле, не знаю, почему я стала отвечать. Впрочем, кажется, вопрос не очень-то меня и удивил. Может быть, я так себе и представляла общение между мужчинами и женщинами. У меня не было никакого опыта в этом деле, настолько никакого, что я стеснялась этого и даже выдумала одноклассника, с которым якобы целовалась. Но вряд ли я могла бы соврать о том, что у меня когда-нибудь был мужчина. Даже мелкая ложь про поцелуи заставила меня мучительно покраснеть, и я боялась, что он мне не поверил.
Я ответила: "Нет".
Он воспринял мой ответ серьёзно, кажется, это было важно для него. Он даже не слишком это скрывал.
Может быть, ощущение другой культурной традиции, к которой он отчасти принадлежал – традиции народа более древнего, ровесника библейской ветхозаветной истории, принявшего христианство куда раньше, чем оно пришло на Русь, – делало всё то, что было между нами, непротивоестественным, имеющим право быть, может быть, даже почти нормальным.
Вот, кажется, он сидел и всерьёз проверял, гожусь ли я ему в жёны, гожусь ли я в матери его будущих детей.
Я подумала: возможно, мужчины, не имеющие генетической памяти о том, что такое жениховство нормально и допустимо, не могли бы вести себя так с девочкой, которой было только четырнадцать.
Глава 5
Я не так уж часто вспоминала А.Д. в последнее время, хотя в квартире, где я жила, всё ещё кое-где порой попадались его вещи. Какая-то, скорее ментальная, чем физическая лень мешала мне сложить их все в дальний угол шкафа или даже выкинуть.
Теперь я вдруг вспомнила один наш разговор с А.Д., кажется, это было ещё в самом начале наших отношений. Не помню, почему мы заговорили об этом.
Даже когда мы с А.Д. были вместе, он не казался мне очень умным человеком, часто он говорил то, что вовсе не следовало бы говорить. В общем и целом, он лишь повторил тогда то, что я много раз и во многих выражениях слышала и читала раньше, с тех пор, как в школе мы под партой листали девичьи подростковые журналы. Везде, довольно пафосно, говорилось о том, что своего первого мужчину женщина запоминает на всю жизнь. А.Д. лишь повторил эту расхожую истину и добавил, что по этой причине каждый мужчина мечтает о сексе с девственницей. Чтобы она запомнила его навсегда. Он не сказал ничего нового. И всё-таки теперь я почувствовала знакомое, бывшее когда-то привычным, раздражение, которое А.Д., этот человек, во меня вызывал, и которое, мне казалось, я давно преодолела.
«Ничтожество. Пародия на мужчину, – подумала я. – Несчастна та женщина, у которой первым будет такое убожество».
Я злилась, и мне не нравилось, что воспоминания о его словах так меня задели.
Я встала и подошла к окну.
Технически моим первым мужчиной был человек, которого я встретила два года спустя после истории с Якобом. Он был врачом по профессии и тоже был на много лет меня старше. В этот раз не было и намека на чувства между нами, хотя я уже была в том возрасте, который не является преградой для отношений. Ни о чём серьёзном между нами не было и речи, кажется, мы даже не скрывали друг от друга своего безразличия.
Это была ничего не значащая связь, первая из нескольких в тот период моей жизни.
Но это было позже.
За окном висело серое небо.
С той ночи, когда я вдруг вспомнила о Якобе, прошла неделя. Я посмотрела на календарь.
Мне казалось маловероятным, чтобы сам Якоб хоть раз за все эти годы вспомнил обо мне. На момент нашей встречи он был уже взрослым человеком, и в его жизни, должно быть, это был лишь краткий, ничего не значащий, эпизод.
Несколько раз, я помнила, он при мне называл женщин тварями: кажется, у него был не слишком приятный опыт, связанный с неверностью девушки, незадолго перед нашим знакомством. Быть может, и я, когда не пришла на следующую встречу, стала для него «тварью».
***
Некоторые подробности я совершенно забыла.
Например о том, что Якоб в прошлом был женат, и что он тогда лишь недавно развёлся; наверное, я в то время не придала этому факту значения. Казалось, это было уже в прошлом. Он и его жена жили вместе восемь лет и развелись "из-за отсутствия детей" – так было написано у меня. Теперь я вспомнила. Он не сказал, кто потребовал развода, и я тотчас решила, что это был он и что он, должно быть, очень требовательный и даже жестокий человек. Его жена не смогла подарить ему детей, и он развёлся с ней – кажется, таким образом я представляла себе всё это.
Может быть, так оно и было.
У меня было написано: «развёлся недавно». И тем не менее я вспомнила теперь историю с неверной девушкой, и получалось, что после развода, к моменту нашей встречи, у него был ещё один неудачный опыт совместной жизни, сожительства, с девушкой, которая ему изменила, или даже изменяла, водила кого-то в их дом. Он назвал её "тварью". Обобщив, он сказал, что вообще все женщины – твари, потом, уже тише, добавил, что меня он к ним не относит. Его слова мне не понравились, но я ничего не сказала.
Время, когда я посчитала бы своим долгом открыто возмутиться в ответ, для меня ещё не пришло.
***
Я отошла от окна, села в кресло и закрыла глаза.
Я всегда считала себя умной, я училась лучше большинства, читала больше других, и потому мне стоило немалого труда заметить наконец, сколько раз, как часто, я понимала других людей совершенно неправильно. Я в целом, мне казалось, понимала главную причину своих ошибок и всё же ничего не могла с этим поделать. С тех пор как я начала это замечать, я потеряла уверенность в своей способности судить о людях верно.
Я перебирала в памяти слова Якоба и пыталась догадаться по ним, кто он был, этот Якоб, и что я на самом деле значила для него.
Возможно, объяснение было только одно, и оно было на поверхности: он дурил мне голову, он лгал. Возможно, ему было всё равно, что говорить.
Странно, что столь простому и очевидному объяснению я упорно не хотела верить.
Может быть, я невольно всё-таки поверила ему тогда и теперь не могла преодолеть или пересмотреть эту веру. И потому верила, продолжала верить ему сейчас.
Глава 6
В конце недели я должна была съехать с квартиры. В комнатах, уже почти оставленных, царил застывший хаос, какой бывает перед отъездом. Чужая мебель, теперь обнажившаяся, чем-то напоминала мне толпу свидетелей, соглядатаев. Доносчиков, быть может.
Весь день я пыталась уничтожить следы своего (а раньше – нашего с А.Д., бурного) пребывания здесь, но мне казалось, что по-прежнему следы – повсюду.
Я чувствовала себя измотанной.
Кажется, я давно жила на чемоданах, но теперь я возвращалась домой.
Кажется, это решение было неизбежным, давно созревшим. Очевидным, несмотря на всё моё сопротивление.
Ещё в пору моего детства и юности стало ясно, что в целом я и моя мать – мы можем ужиться друг с другом. Это был в то время словно бы тихий, едва уловимый намёк на то, что мы не только «можем», но и должны будем сделать это когда-нибудь.
В юности я порой мечтала, чтобы мои отношения с матерью стали невыносимыми, чтобы возникли между нами конфликты настолько острые, такие, чтобы они способны были раз и навсегда выбросить, выжить меня из родительского дома – сделать то, на что у меня самой не хватало сил. Я была слишком привязана к дому и не могла найти в себе решимости на разрыв с ним.
И тем не менее наши с матерью конфликты сглаживались, рассеивались, никогда не успевая нагнетаться. Причины для возможной ненависти ускользали, утекали как песок сквозь пальцы. Все мои бунты заканчивались ничем. Дом принимал меня обратно.
Очевидно, должен был принять и теперь.
Я включила свет.
Моя старая тетрадь всё ещё лежала на столе, хотя все мои вещи, те, что я брала с собой, были собраны. Я открыла тетрадь и пролистала её до конца. Записи заканчивались поздней осенью, когда никаких упоминаний о том, что произошло летом, в них давно не попадалось.
В тексте мне сейчас почему-то бросились в глаза орфографические ошибки, совсем школярские; рядом с ними многие подробности казались почти непристойными.
Я давно ничего не писала – ни о себе, ни о чём-либо ином, – но правила правописания за годы, что прошли со времён школы, успели превратиться для меня в нерушимый закон, в профессиональное рабство. Большую часть своего дня я редактировала чужие тексты, тексты людей вполне свободных от правил орфографии и пунктуации, и я невольно в этот момент почти завидовала этим людям.
Нагромождения чужих словесных конструкций, завалы слов, страницы текстов, где я перекладывала и переставляла слова, – вся эта территория языка, царство слов, для меня теперь было словно захвачено ордами чужаков, варваров, и мой собственный голос безмолвствовал. На этой истоптанной земле, мне казалось, уже не могло прорасти для меня ничего личного.
***
Я положила тетрадь на пол рядом с кроватью и выключила свет.
Я подумала: если бы я всё-таки взялась теперь писать о себе и о Якобе – может быть, писала бы рассказ – я, наверное, замаскировала бы Якоба до неузнаваемости; я сделала бы его, возможно, светловолосым и бледнокожим, и сделала бы его, наверное, моложе. Можно было бы назвать это «преодолением материала», но на самом деле я постаралась бы таким образом хоть немного затушевать, затереть всю неуместность этой истории.
Я стеснялась быть рядом с ним даже в то время, и я до сих пор помнила это чувство стыда. Мне казалось, что все вокруг видят нас и осуждают меня, и старалась не смотреть по сторонам. Для меня самой его внешность и его происхождение имели мало значения, и это несоответствие внутреннего и внешнего казалось мне особенно унизительным, недостойным меня.
И всё-таки он был взрослый, он был «старый», и его внешность так сильно отличалась от моей, что нельзя было даже сделать вид, будто он мой отец или другой старший родственник. С «такими» мужчинами водились только самые испорченные и жалкие девчонки.
Кажется, я расслаблялась немного лишь тогда, когда нас никто не видел, когда мы с ним забредали на самые безлюдные аллеи парка.
Вряд ли я смогла бы тогда до конца преодолеть этот свой стыд.




