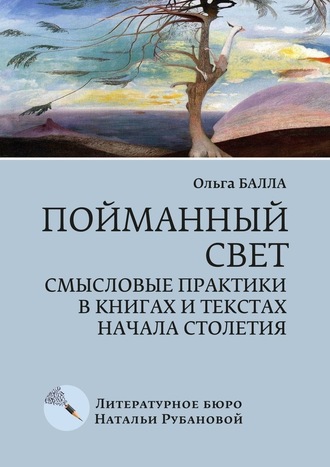
Ольга Балла
Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия
Ключи к самим себе: слова и вещи русского самосознания23
Кирилл Кобрин. Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
На первый, не самый внимательный взгляд может показаться, что «Разговор в комнатах» – книга, не совсем типичная для своего автора.
Кирилл Кобрин – мыслитель, как давно известно его читателям, подчёркнуто частный. Историк по основной специальности и эссеист по предпочитаемому способу высказывания, по существу он – именно мыслитель, со своей особенной стратегией мыслепостроения: скептичный, осторожный, избегающий, насколько возможно, далеко идущих обобщений. Такой, который будто бы даже и не мыслитель вовсе – отказывающийся, по крайней мере, занимать такую позицию. Он уж скорее, – наблюдатель. Энтомолог смысла. Естествоиспытатель его. Подстерегатель тех движений, которыми из (частных, повседневных) случаев растут (крупные, исторические) события. Собственное мышление – исследовательское ли, художественное ли (а в данном случае оно, вне всяких сомнений, исследовательское, совершенно независимо от того, что автор, обращаясь не к коллегам-историкам. но к широкому кругу понимающих читателей, намеренно избегает академичной сухости и даже список литературы, сведя его к минимуму, помещает в самый конец книги – чтобы не утяжелял повествования) – так вот, собственное мышление Кобрин старается организовывать «точечно», разбирая анатомию отдельных случаев в формате отдельных же эссе.
Теперь, как будто, – совсем другое дело.
На сей раз перед нами – построение вполне цельное, и процессы, о которых тут говорится, – весьма широкие. Да, составлено это повествование из трёх эссе об избранных, вполне точечных сюжетах – однако три эти точки соединены отчётливо направленной линией (по крайней мере, такую линию легко провести). Тут идёт речь о кристаллизации тенденций – и мысли, и социального поведения, – определяющих наше историческое самочувствие вплоть до сего дня.
Почти обобщение. Ещё шаг, ну, несколько шагов – и мы, кажется, уверенно вступим на путь, ведущий к построению, страшно сказать, истории русской общественной мысли с конца XVIII (когда она, собственно, всерьёз началась) до конца XIX века. Увидим, мнится, ответ на вопрос, по каким принципам эта история – согласно мнению автора – складывалась. Во всяком случае, некоторые чувствительные точки, из которых эта история растёт, здесь обозначены совершенно отчётливо.
И вот у этих-то чувствительных точек Кобрин останавливается. Почти.
Три точки – три человека, принадлежавших в трём разным поколениям и писавших тексты по-русски (впрочем, один из них вообще предпочитал писать по-французски, и на русский его – когда он вообще публиковался – переводили): Николай Карамзин, Пётр Чаадаев и Александр Герцен. Кобрина занимают даже не идеи его персонажей как таковые, но в первую очередь то, что каждый из его героев сделал с русским языком своего времени, создав таким образом возможность разговора о русском обществе как целом. Языку же каждый из них придал – не бывшую до тех пор – зрячесть, способность видеть это целое и определённым образом его моделировать. До Карамзина, утверждает Кобрин, не было именно языковых средств такого видения – а потому не выходило и самого разговора. Карамзин, Чаадаев и Герцен, по Кобрину, – наговорили русскому обществу способ видения самого себя, задали этот способ особенностями своего словоупотребления. И в результате – по существу, благодаря их текстам. даже независимо от того, насколько адекватно эти тексты были прочитаны и поняты! – «все эти люди, „русское общество“ как таковое, заговорили о себе, о своих проблемах, устремлениях, своём устройстве и своих идеалах. О прошлом, настоящем и – особенно – о будущем».
«Кто придумал, – задаётся автор в самом начале книги вопросом, – язык, на котором такой разговор вёлся? Кто предложил и сформулировал темы для обсуждения?»
Вот, герои книги и придумали. Разумеется, не они одни, о чём говорит и сам автор. Однако на их примере виднее всего, как такое вообще делается. По крайней мере, автору точно виднее.
И тут перед нами, конечно, – узнаваемо-кобринская тема, одна из самых настойчивых его тем, – эту тему он разрабатывает на любых материалах, за которые вообще берётся: модерность, modernité, её устройство, происхождение, сущность. Modernité, по Кобрину же, – состояние характерно-европейское, и в этом смысле мы – вне всяких сомнений, европейцы. В книге речь о том, как, речевыми усилиями своих литераторов, Россия входила в состояние модерности и как она начинала себя в нём понимать. Узнаётся здесь и характерная кобринская тематическая сцепка: модерности и частности. Частный одинокий человек, как мы знаем из предыдущих книг Кобрина, – и порождение модерности как состояния общества и умов, и один из важнейших её источников, точек её выработки. Русская история подтверждает всё то же (прямо, по обыкновению, не формулируемое) правило: сильнейшим источником русской модерности Кобрин видит Чаадаева – частного человека по определению, имевшего, разумеется, свои пристрастия, но державшегося в своём флигеле на Новой Басманной принципиально в стороне от всех течений и объединений, сторон и группировок, – занимавшего позицию, из которой видно далеко во все стороны света. Не то чтобы, конечно, автор пишет тут собственный портрет, с Чаадаевым они изрядно различны во множестве отношений, – но своё родство с этим персонажем он несомненно чувствует – как, впрочем, думается, и с Герценом, двадцать с лишним лет проведшим в ситуации принципиальной вненаходимости, не принадлежа вполне ни оставленной им России, ни странам, в которых жил после 1847 года: эмигрант и частный человек – позиции, родственные друг другу.
Любопытно, что, по наблюдениям автора, фактически получается вот что: сама возможность и разговора в русском обществе о его проблемах, и лежащего в его основе целостного видения была создана вроде бы незначительными сдвигами внутри русской речи, лексическими и даже интонационными смещениями, перестановками акцентов. Причём очень похоже на то, что такие перестановки и смещения происходили не вполне намеренно, больше исподволь. Ни для кого из героев Кобрина язык не был основным предметом внимания. Никто из них не был – по сознательной программе – языковым реформатором или, упаси Господи, революционером. Карамзину, конечно, мы некоторыми новыми словами обязаны; и он, и Герцен писали художественные тексты, однако же языковую оптику русского общества, позволяющую ему видеть собственные проблемы, они настроили совсем другими средствами. Чаадаев же и вообще изящной словесностью не занимался, из всех жанровых форм предпочитая наименее обязывающие: частные писем да заметки для самого себя, а лучше всего – устную речь. И вот тем не менее. То есть – тем вернее.
Трёх уколов в плоть исторического процесса, трёх взятых из его гущи проб Кобрину вполне достаточно: эти пробы тем более характерны, чем более прихотливо-индивидуальны, чем менее укладываются в рамки (а то даже и вовсе их ломают). Представляемая Кобриным картина и в мыслях не имеет быть исчерпывающей: ему важно показать точки роста и, что, кажется, и того важнее, – характер этого роста. Идеологемы и мыслительные инерции, которые мы застали уже в их затвердевшем, даже изношенном и опустошённом облике (как, например, противопоставление «России» «Европе»), он подстерегает в момент их возникновения, ещё до кристаллизации или в самом начале таковой – молодыми и гибкими. Рассказывая нам об этих трёх сюжетах из истории русской речи и мысли, он говорит нечто очень существенное об устройстве мысли как таковой.
В известном смысле Кобрин – прямой, хотя как будто не очень явный, наследник Мишеля Фуко с его вниманием к тому, как употребительные в некоторую эпоху слова, с характерными для них семантическими подробностями и тонкостями, определяют миропонимание этой эпохи. Кстати, свои характерные слова-ключи, формирующие видение предмета, есть и у него самого. В данном случае, применительно к рассматриваемому в книге кругу вопросов, такое слово – повестка.
Этим словом он обозначает список вопросов и тем – не обязательно формулируемых явно, но настойчивых – которые в определённую эпоху (а то и не в одну) чувствуются важными и обсуждаются, по отношению к которым людям этого времени волей-неволей приходится занимать позицию. Попадая в состав повестки, слово обретает силу принудительности, начинает задавать характер видения обсуждаемых предметов. У таких вопросов, тем и слов есть – показывает нам автор – совершенно конкретные (и в этом смысле, вполне случайные) источники – и, как видим, даже авторство.
То, что Кобрин, со скрупулёзностью палеонтолога, здесь реконструирует – даже не история общественной мысли как таковой. Тут сложнее, тоньше: он проясняет историю её внутренних возможностей, их созревания и выхода на поверхность. Её неочевидных корней, не видимых прямому взгляду истоков и стимулов. Тех незаметных сдвигов, которые со временем приводят к далеко идущим структурным изменениям. Если и не в устройстве мира, то, во всяком случае, – в его понимании. Фактически он – открыто себе такой задачи не ставя – занимается микроструктурами внутри больших структур, пишет микроисторию больших смыслов.
Три представленных им интеллектуальных биографии – сюжеты из истории наших ключей к самим себе. И тут чрезвычайно велика воля случая: каждый из этих ключей, предоставленных русским языком, был выбран конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, под влиянием этих обстоятельств и по своему вкусу ими настроенных. Потому так много внимания Кобрин уделяет обстоятельствам жизни своих героев – из этих обстоятельств растёт их речь, а с нею и способ видения: он показывает (частную) биографию как инструмент выработки (обретающего общезначимость) смысла. Хочется даже сказать – чем более частна и штучна биография, тем, выходит, радикальнее её смыслопорождающее и смыслопреобразующее воздействие (таков случай «басманного философа» Чаадаева, просидевшего в своём флигеле в статусе сумасшедшего примерно те же двадцать плодотворных лет, что и Герцен в чужих странах, – в состоянии, так сказать, внутренней вненаходимости), – хочется, но удержусь. Это уже было бы непозволительным обобщением.
Во всяком случае. внутри каждого из трёх избранных им столкновений человека и истории Кобрин прослеживает, как случай затвердевает в закономерность; наблюдает, насколько зависимы культурные и социальные макропроцессы (куда, например, будут направлены большие потоки общекультурного внимания, шутка ли!) от обстоятельств и факторов, в сущности, слепо-случайных, необязательных. И личный выбор – ещё не самый случайный из этих факторов. Есть случайности и тоньше: то, что сложилось само. Волею обстоятельств.
2018
Как бы глазами Ангела истории24
Не прошло и тринадцати лет после первого перевода Гезы Сёча на русский (то было либретто мюзикла из времен венгерской революции «Liberté 1956», опубликованное в составе двухтомника венгерской драматургии в 2006-м; в новой редакции перевода мы увидим его и здесь), как перед нами – первое на русском языке собрание его прозаических и драматических текстов. Сёч – один из самых не просто ярких, а, что называется, знаковых авторов, пишущих сейчас по-венгерски. Одновременно он – одна из самых трудных и проблематичных (но тем более заметных и влиятельных) фигур в современной венгерской культуре – известен в землях, где говорят на его родном языке, уже почти сорок лет, с диссидентской молодости. Он увенчан многими наградами, и не только в двух своих отечествах: в Румынии, где родился, и в Венгрии, которой принадлежит по языку и культуре и где теперь в основном и живёт, – одна важнее другой: премией Милана Фюшта (1986), премией Тибора Дери (1992), премией Габора Бетлена (1993), премией Аттилы Йожефа (1993), премией Лаврового венка Венгрии (2013), премией Кошута (2015) – нет, это не полный перечень, – а также премией Румынского Союза писателей (2008) и большой премией Венской Европейской академии (2009). Всего этих наград у него, кажется, полтора десятка, – это уже само по себе – свидетельство того, что человек говорит и делает нечто важное для своей культурной среды. У нас он, кажется, едва прочитан – если вообще.
В минувшие со времён первого перевода почти полтора десятилетия тексты Сёча в русскоязычном пространстве время от времени появлялись – но непохоже, чтобы создаваемый ими образ писателя успел за это время сложиться хоть в какую-то цельность. В 2007-м в шестом номере журнала «Неприкосновенный запас» в переводе Андрея Ковача вышло эссе «Товарищ Калинин в Кёнигсберге» и там же, в переводе Вячеслава Середы, – «Манифест во имя Кёнигсберга», обращённый ни больше ни меньше как «к Федеральному Собранию Российской Федерации», «к Правительству Российской Федерации» и «к муниципальным органам власти города Калининграда», а заодно и к «писателям, пользующимся международным признанием» и выдвигавший дерзко-утопический проект превращения Калининграда-Кёнигсберга в «самостоятельный город-государство, в уставе которого был бы заложен принцип вечного нейтралитета». Затем, в «Иностранной литературе» за март 2012 года – журнальная версия романа «Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи» (тоже в переводе Середы; его мы также прочитаем в предлагаемом сборнике, но уже не в журнальном, а в полном варианте), а в мартовской «Иностранной литературе» за 2018 год – «Стихи из книги „На Солнце“» в переводе Юрия Гусева. В 2016 году в издательстве «Водолей» вышла отдельной книгой пьеса «Распутин: миссия» в переводе Юрия Гусева25 (ранее тот же перевод выходил в «Иностранной литературе» №8 за 2014 год, в рамках «Литературного гида», посвящённого столетию Великой войны; в нынешнее собрание сочинений она включена в значительно расширенном и обновлённом варианте). В целом, как видим, не очень много.
Ни одной рецензии на русском языке разыскать не удалось (что и не удивительно, собственно, он и книгой-то как следует не выходил, «водолеевскую», ввиду её, надо полагать, малотиражности мало кто заметил), – кроме разве что отдельных частных читательских реплик: в Живом Журнале26, на ЛайвЛибе27… Всё-таки Сёч и вправду, похоже, остался на уровне частного чтения: не случилось его обсуждения в публичном пространстве, а ведь было и есть что обсуждать.
Совсем ранние «Вифлеемские младенцы» (1988), мистерия «Страсти Христовы» (1999), уже знакомые нам «Дневник барышни-страусихи» (2007), «Liberté 1956» (2006) и пьеса о Распутине (2013), совсем недавнее эссе «Фатехпур-Сикри, или Акбар в Коложваре» (2017) и другие тексты, написанные на разных этапах жизни их автора и в разные исторические эпохи, будучи собраны здесь, представляют Сёча русскому читателю с наибольшей на сей день полнотой. Эта полнота, к сожалению, тоже на свой лад ограничена, – поэтическая, например, сторона работы автора осталась почти совсем за пределами сборника, не считая стихотворных фрагментов вошедших сюда произведений.
Но всё-таки мы теперь имеем возможность увидеть пусть и не весь спектр стилистических возможностей писателя, но изрядную их часть; составить себе представление о его ведущих интонациях, а то, пожалуй, и о смысле его работы в целом (при всём многоразличии своих стилистических инструментов он весьма цельный). Объединяя (почти) противоположные полюса (эстетической) деятельности Сёча, сборник представляет нам разные его облики – едва ли не противоречащие друг другу, но на самом деле укладывающиеся в одну линию: от трансильванского диссидента и вынужденного эмигранта времён Чаушеску до признанного и влиятельного писателя и главы Венгерского Пен-клуба.
Собратья же его по языку и культуре почитают его прежде всего как поэта. И на равных с этим основаниях – как политического активиста, борца за права венгерского меньшинства в Румынии.
Венгерская Википедия определяет Сёча так: поэт, политик, – справедливо ставя поэта на первое место. Хотя он, конечно, много кто ещё. В том, что он прозаик, эссеист и драматург, читателю предстоит вскоре убедиться. Свидетельства иных сторон его литературной деятельности в нашу книгу не уместились, но их хватит на изрядное собрание сочинений. Сёч – человек огромный уже чисто количественно. С юных лет и по сей день писал и пишет романы, оперные либретто, киносценарии, литературную критику, публицистику. Писавшие о нём уже давно заметили, что автор всего этого изобилия рассматривает в качестве перспективы своей литературной работы не отдельные тексты и даже не сборники их, но пронизывающие их связи и в конечном счёте – дело своей жизни в целом28. Сказано это было в 2000 году, и с тех пор ничего не изменилось. Одно из посвящённых Сёчу эссе снабжено подзаголовком «Геза Сёч, поэт, революционер, астроном и читатель Купера»29. Ну, астроном он метафорически, а вот всё остальное точно. В том числе и слово «революционер».
Вообще-то он скандалист и нарушитель спокойствия. Это если по типу действия и темпераменту.
Сёч яростный, своевольный. Ломает рамки (кстати, принципиально неполная жанровая принадлежность текстов, которые нам в этой книге предстоит прочитать, – упорно кажется частным и органичным случаем этого). Ни в одну конъюнктуру не вписывается.
Но главное тут – не темперамент. Он просто наложился на определённые исторические обстоятельства – и эта смесь оказалась взрывчатой.
Самое время внятно и по возможности подробно рассказать его биографию, отчасти нами уже обозначенную. Тем более что на русском языке о нём вообще как-то, похоже, много не прочитаешь, – одна только, кажется, статья в Википедии, и та скуповата, – хотя основные точки там намечены.
Самое, кажется, важное, что тут надо понимать: Сёч родился внутри ситуации большой венгерской катастрофы – как своего исходного биографического обстоятельства, которое многое в нём определило – и в его жизни, и в самом складе его личности. С подписанием Трианонского договора в июне 1920 года эта катастрофа только началась, она продолжается, по существу, до сих пор, хотя в следующем году ей исполнится уже сто лет, внутри неё успели вырасти поколения. К моменту рождения Сёча в 1953-м катастрофе было всего тридцать три года, она – состоявшаяся на памяти тех, кто ещё жил тогда – была вполне свежа и кровоточила. (Чтобы стало совсем понятно: отсчитайте от нашего 2019-го тридцать три года: 1986-й. Это было вчера.)
Строго говоря, страстно преданный венгерскому делу Сёч – гражданин мира. По крайней мере, Европы – уж точно. И не только по собственному внутреннему расположению и умственному устройству (хотя это – несомненно), но прежде всего – вынужденно, в силу исторических обстоятельств, которые есть все основания назвать несчастными. Его родной город, известный теперь (как уже и в момент рождения Сёча в 1953-м) под румынским названием Тыргу-Муреш – это вообще-то венгерский город Марошвашархей, – город в Трансильвании, отторгнутой от Венгрии в составе двух третей земель венгерской короны по Трианонскому договору от 4 июня 1920 года30. Вместе со всей Трансильванией – с полуторамиллионным венгерским населением – Марошвашархей был официально передан Румынии, к которой до тех пор не имел отношения никогда (фактически Румыния аннексировала Трансильванию ещё 1 декабря 1918 года и до сих пор отмечает эту дату как день своего объединения). Прежде Трансильвания либо составляла часть Венгерского королевства, либо была независимым княжеством. Когда Сёч родился, Тыргу-Муреш ещё имел официальный статус венгерского города, был даже столицей Венгерской (с 1960 года Муреш-Венгерской) автономной области, созданной в 1952-м. Нет уже этой автономной области – как уничтожил её Чаушеску в 1968 году, так с тех пор и нет. Оказавшись ещё в 1918 году на собственной земле в положении чужаков – «меньшинства», венгры Трансильвании остаются таковыми по сей день. С самого рождения – как и автор представляемой книги.
Эта трагедия стала в конце концов причиной вступления Венгрии во Вторую мировую на стороне Гитлера – что опять-таки кончилось катастрофически.
По трансильванской ране, ещё и не начавшей заживать, вскоре полоснули ещё раз: часть Трансильвании – Северную – в 1940-м Гитлер отдал Венгрии, взамен пообещав румынам Одесскую область. И это снова была катастрофа: через новую границу с обеих сторон хлынули беженцы – с каждой из сторон – по сотне тысяч. Начались массовые погромы и этнические чистки. В 1945-м победители вернули Северную Трансильванию румынам. Погромы и этнические чистки начались снова – уже антивенгерские.
Важнейшей частью исходного опыта Гезы Сёча – ещё не исторического, нет, просто личного опыта растущего человека – было унижение и одновременно с этом – чувство прямой и прочной связи между языком и свободой, языком и человеческим достоинством. «Когда, ещё подростком, я читал в газетах о том, что в Алабаме или в Южной Африке чернокожим (тогда ещё, во всяком случае у нас, слово „негр“ не считалось бранным) запрещено садиться в автобусы для белых, и о том, какая это унизительная дискриминация, – я был с этим утверждением совершенно согласен. Одного я только не понимал: почему не дискриминация – то, что в Трансильвании в публичной жизни запрещён венгерский язык…»31
Широко известен выпускник Университета имени Бабеша – Бойяи в Клуж-Напоке (Коложваре), специалист по венгерской и русской филологии, успевший получить премию «Дебют» от Румынского Союза писателей (1976), стал в начале восьмидесятых: как одного из издателей подпольного журнала «Ellenpontok» («Контрапункты», 1981—1982) и автора открытых писем к Чаушеску с требованиями изменить конституцию, его неоднократно задерживала румынская госбезопасность, «Секуритате». (Вообще-то Сёч был известен не только этим, – к неполным тридцати годам у него уже было три изданных книги, две из них – в столице, в Бухаресте32, – но своей политической активностью, так сказать, бросался в глаза.) Много позже – только в 2012-м – листая досье на себя в архиве «Секуритате», Сёч узнал, что за ним следил и сообщал о нём куда следует его собственный отец – писатель, журналист, критик, переводчик, историк культуры Иштван Сёч, бывший осведомителем тайной полиции33. В этой невыносимой ситуации сын повёл себя очень достойно и великодушно. «Доносы отца на меня, – сказал в связи с этим Сёч, – я бы отнёс, скорее, к жанру пародии, – но я не могу знать, в какой степени он навредил другим людям в других случаях, независимо от того, был ли он злонамерен или – как я предполагаю и убеждён – не был». «Эта история, – сказал он также, – прекрасная иллюстрация того, какого рода мораль и какие отношения царили в румынском партийном государстве, обращавшем друг против друга отца и сына, мужа и жену, брата и брата, и того, почему противостояние диктатуре было для нас неминуемо». «Понятия не имею, – добавил он, – сколько грехов совершил в своей жизни мой отец (а также мой дед, прадед, прапрадед и прапрапрадед), – но сколько бы они их ни совершили, я как писатель и политик твёрдо намерен исправить (если это невозможно полностью, то частично) совершённые ими проступки, ошибки, вины и грехи»34.
В 1986 году он вынужден был уехать из страны и до 1989-го работал журналистом в Швейцарии, а в 1989—1990-м руководил будапештским отделением радио «Свободная Европа».
Как только режим Чаушеску рухнул, в 1990-м Сёч вернулся в Румынию и немедленно занялся – одновременно с писательством и журналистикой – политической деятельностью. Одно время руководил Демократическим союзом венгров Румынии, в 1990—1992-м был членом румынского Сената. Впрочем, уже с девяностых годов он всё более сотрудничает с венгерскими изданиями и организациями (с 1992-го входит в редколлегию журнала «Венгерское обозрение» – «Magyar Szemle», в 1996—2000-м был членом руководства телекомпании «Хунгария»…), пока наконец, не прерывая сотрудничества с организациями и изданиями румынских венгров (оставаясь, например, редактором выходящего в Румынии на венгерском языке с 2001 года журнала «Литературное настоящее» – «Irodalmi Jelen»), не переселяется в Венгрию совсем.
Есть, казалось бы, все основания воспринять Сёча как политического писателя, а тексты его – как литературу, так сказать, прямого действия, пишущуюся ради того, чтобы немедленно влиять на умы современников, побуждая их менять сложившееся, недолжное положение дел в пользу более правильного и справедливого. Не то чтобы в этом вовсе нет правды, – но всё существенно сложнее. Настолько, что так и хочется сказать – прямо даже совсем не так, но от этого поспешного высказывания удержимся.
Для того, чтобы быть политическими агитками, привязанной к (неминуемо быстротекущему – даже если он размером в столетие) историческому моменту, для выполнения её скромных оперативных задач тексты Сёча чересчур весомы. Иной раз кажется – даже перенасыщены, а то и перегружены культурной памятью: и не только венгерской и трансильванской, хотя ею, конечно, в первую очередь (Сёч многое адресует своим собратьям по языку, культуре, символической общности и исторической ситуации, понимающим его с полуслова, – и тут, увы, некоторые смысловые оттенки обречены оказаться за рамками русского восприятия), но европейской и мировой. Размах упоминательной, цитатной и реминисцентной клавиатуры – ну, например, от Омара Хайяма и Абу-ль-Ала (не каждый догадается без комментариев, кто это такой. А это арабский поэт и мыслитель, живший полувеком ранее Хайяма) до Кристофера Марло и Уильяма Шекспира, от духовного писателя, авантюриста, религиозного и политического деятеля XVI века Якова Палеолога (тоже не всякий вспомнит, да?) и Альфонса де Ламартина до венгерских классиков и современников. Даже если это как бы иронический (как бы даже и ёрнический) дневник барышни-страусихи, томящейся на страусиной ферме где-то в Трансильвании в ожидании отправки на бойню и замышляющей побег в Африку.
Конечно, первым делом читателю придёт в голову Оруэлл с его «Скотным двором», а читателю русскому – ещё и ранний Пелевин с «Затворником и Шестипалым». Схожие ситуации, следственно, и смысл можно предполагать тот же самый… Но настораживает уже сама стилистическая щедрость, густота и пестрота словесного ряда, плотно и хитро сплетённая ткань текста. Ради агиток так не стараются, да и ради антиутопий и притч не слишком. А тут речь так роскошествует и буйствует, что должна, казалось бы, с первой же страницы настроить читателя на понимание того, что перед нами нечто, превосходящее по своему заданию руководство к политическому, социальному и какому бы то ни было поведению.
«А когда наступают промозглые, зябкие, индевелые, мглистые, непогодистые, дождливые, снежные или морозные дни, мы можем укрыться в прекрасно отапливаемых вольерах».
«В лесу на полянах кишмя кишат, беспрерывно произрастают, цветут, плодоносят лаванда, кроваво-красный боярышник, мохнатая вика, незабудки, чистотел, рогульник, иссоп, невердай, облепиха, змееголовник, лесной хвощ, калина красная, крокус, дягиль, синайская чертогон-трава и осенний безвременник».
Конечно, те же записки свободолюбивой страусицы легко прочитать как вполне прозрачное иносказание – настолько, что даже прямолинейное высказывание (структура вот только не даёт, фрагментарная, вся из разнонаправленных и разнонасыщенных фрагментов, но допустим, что на это можно не обращать внимания) о том, что свобода – это хорошо, а несвобода, напротив того, – плохо, что жизнь в несвободе оглупляет, что при этом она, как правило, многим удобна и они выбирают её – и соответствующий ей собственный статус – с радостным согласием (так обитатели страусиной фермы, выбирая себе общее название: «табун»? «рой»? «электорат»? «республика»? «фаланстер»? «быдло»? – демократическим большинством голосов выражает решительное предпочтение последнему).
Ну тоже мне новость.
Но не даёт, не даёт структура нам ходу к таким элементарным выводам, сопротивляется.
По мере своего развития текст прирастает подробностями, выводящими сказанное за рамки описания ситуации венгров в Трансильвании и переводящими его на уровень разговора о судьбе и устройстве человека вообще, самосознающего существа вообще. Да он уж и с самого начала указывает в эту сторону: «Но почему тогда по ночам нам слышится зов иной родины, иной жизни, иной части света – отчего, еженощно? Отчего до меня доносится этот зов, отчего ощущается эта тяга, почему мне сдаётся, будто по коже моей иногда пробегает воспоминание или даже физическое дуновение жарких южных ветров, доносящих из-за экватора до нашей убогой фермы обещание вольной жизни, жизни с поднятой головою?» Вначале-то – иронически, но дальше – и больше, и серьёзнее (впрочем, может быть, вполне серьёзно – как и вполне иронически – Сёч не говорит никогда, каждое его высказывание слоится, оставаясь цельным). Можно рискнуть сказать, что текст Сёча – и не этот один – обманка, который прямо в читательских руках оборачивается не тем, чем предстал первому взгляду.
Штука ещё и в том, что говоря, например, о страусах, Сёч в самом деле моделирует их сознание, особенности их восприятия и представлений о жизни, их фольклора и мифологии. Ему важна и интересна их не-вполне-человечность в её суверенности, помимо всяких иносказаний. Отдельно прекрасны излагаемые в приложении к дневнику Лимпопо соображения его переводчика на человеческий язык о том, как устроен язык страусов.
«Грамматический строй этого языка не знает ни достаточно чётких различий между прошедшим, настоящим и будущим временами, ни привычной триады подлежащее – сказуемое – дополнение. Можно сказать, что субъект высказывания, авторское „я“ в речи страусов, до конца не отделены от вещей и событий мира. Таким образом, сознание говорящего как бы склеивается с предметом, неразличимо сливается и отождествляется с ним. <…> Подобно тому, как в китайской письменности используются не буквы, а символы, или иероглифы, означающие целое слово или понятие, так и грамматические конструкции в языке страусов отличаются такой гибкостью и пластичностью, что любая ситуация может быть выражена особенным, нестандартным языковым клише. <…> Речь их складывается не из звуков и даже не из слогов, а из слов и особого языкового связующего материала, поддающегося не морфологическому, а в лучшем случае разве что фонетическому описанию. <…> Фраза типа „выла собака“, как неконкретное высказывание, абстрактное сообщение, в этом языке, пожалуй, вообще невозможна. На страусином в этом простом высказывании будут содержаться указания на место (у забора), время (ночью, при луне), продолжительность (коротко, долго), на объект и цель (на кого и зачем выла), на способ (тихо, во всю глотку) и т. д. и т. п. Человеку, который захочет понять и использовать этот язык, он подарит ошеломительный опыт острого, зоркого, насыщенного, естественного и спонтанного восприятия событий во всей их неповторимой сложности, текучести и динамике, и фантастические впечатления от протекающей прямо на глазах жизни».



