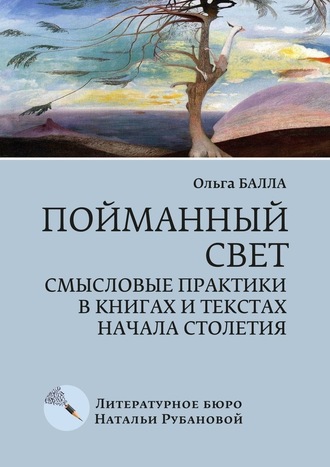
Ольга Балла
Пойманный свет. Смысловые практики в книгах и текстах начала столетия
Такое состояние трудно назвать эмиграцией
Томас Венцлова. Пограничье: Публицистика разных лет. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.
Всеми собранными в книгу текстами Томас Венцлова – поэт, филолог, переводчик – рассказывает свою геобиографию: жизнь, не отделимую от особенным образом организованного пространства, этим пространством созданную. Вошедшие сюда тексты писались в разное время, в том числе – ещё при советской власти, что придаёт складывающейся из них картине особенную объёмность.
Венцлова – уже по месту рождения, по своей изначальной культурной ситуации – человек пограничья. Эмиграция, в которой он провёл основную часть жизни, ещё усилила это. О типе собственного опыта он, изъездивший много стран, говорит так: «Глобальный опыт – сплошное пограничье: жизнь на этом пограничье заставляет постоянно пересекать рубежи, не покладая рук бороться с изоляцией».
Вот один из важных ключей к тому, что он делал и делает в жизни: «бороться с изоляцией».
Венцлова – человек-посредник (в том числе – в самом прямом смысле: переводчик), человек, соединяющий миры. И не только Запад и Россию, Запад и Литву, Литву и Россию, – хотя в этом отношении он сделал и продолжает делать очень многое. Пожалуй, в полной мере это могут оценить только литовцы: Венцлова врастил в литовское сознание, в литовский язык тексты, коренные для ХХ века. Впечатляет уже одно только перечисление авторов, из которых каждый – не просто событие, но целая совокупность событий в истории слова и смысла.
«Мне удалось ознакомить литовских читателей, – пишет он в „Почти биографии“, открывающей сборник, – с творчеством выдающихся писателей и поэтов нашего столетия – Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Томаса Стернса Элиота, Дилана Томаса, Джеймса Джойса, Сен-Жон Перса, Жана Жене, Альфреда Жарри.»
Можно сказать, что он создал для литовской литературы целый пласт – по крайней мере, целый горизонт возможностей: «…практически никто, кроме меня, – говорит Венцлова, – не переводил авангардистов на литовский язык».
(И всё это, заметим, – благодаря тому чисто внешнему вроде бы обстоятельству, что перевод в позднесоветское время был, по словам самого автора, «областью литературной работы, которая в наименьшей степени принуждает к сделкам с совестью».
У переводческой работы Венцловы, стало быть, – этические корни: перевод – особенная разновидность честности.)
Помимо этих вполне очевидных пограничностей, погранична, внутри себя, едва ли не всей собой, – сама Литва, успевшая побывать и польским Востоком, и русским Западом: сложное междумирье, где на протяжении многих лет накладывались друг на друга, просвечивали друг сквозь друга культуры литовская, польская («Виленщина для поляков» – «один из самых важных источников национальной культуры»), русская, всегда взаимодействовавшие, часто соперничавшие, но, во всяком случае, никогда не совпадавшие друг с другом. Добавьте сюда ещё и культуру еврейскую, очень мощную вплоть до её уничтожения в сороковых, однако со всеми названными пересекавшуюся минимально. Можно припомнить и белорусскую культуру – куда менее сильную, но тоже существовавшую на этой земле. В такой, казалось бы, окраине (все центры, определяющие порядок жизни, – где-то далеко) есть нечто очень противоположное провинциальности, которая по существу – закрытость, изолированность, узость. Здесь же, напротив, – чувствилище, открытое разным мирам; пропускающая мембрана, – вбирающая в себя – хотя бы частично – всё, что сквозь себя пропускает. В некотором смысле, по Венцлове, у таких «мембранных» культур даже есть преимущества перед более однородными, «центральными». «Сочетание различных национальных систем, – говорит Венцлова, – их взаимопроекции и даже борьба (пока она не оборачивается уничтожением) делают культуру более динамичной, обогащают её, и тем самым культура становится более адекватным средством ориентации и самосохранения человека.»
Книга, безусловно, может быть прочитана как субъективный путеводитель по смысловой карте Литвы, по линиям, образующим этот сложный культурный организм, по её проблемным зонам и болевым точкам. Сюда вошли статьи, посвящённые истории отношений литовцев с поляками, с евреями, с русскими; отношениям современной Литвы – с Евросоюзом; Великому Княжеству Литовскому как уникальному (автор объясняет, почему) историческому образованию; особенностям и трудностям литовского самоопределения в «русском поле гравитации».
Но ничуть не менее интересно – какого человека способна сформировать такая культура? Узнаем мы из книги и об этом: автор, со своей принципиальной транскультурностью, – в каком-то смысле литовец, возведённый в степень.
Венцлова, впрочем, и сам по себе устроен так, что ускользал от любых сообществ с фиксированными границами. «…я не был, – признаётся он, рассказывая о своей прошлой, советской жизни, – ни профессиональным писателем, ни профессиональным учёным и действительного профессионализма достиг разве что в области художественного перевода.»
Возникает впечатление, что автор скромничает. Русский читатель уже давно знает, что Венцлова – серьёзный и сильный филолог и один из самых значительных поэтов своего поколения. Без профессионализма такое не даётся. Но вполне может быть, что это – не оценка им качества своей работы в культуре, но попытка очертить свою нишу в ней, – или, что вернее, отсутствие такой ниши. Принципиальную экстерриториальность.
Тем более, дальше он пишет вот что: «Окружающие считали меня нонконформистом – причём в двояком смысле. Мне были чужды не только официальные советские ценности, но и то, что обычно считается знаком сопротивления, – например, интерес к новейшей западной музыке, технике, моде. <…> я никогда не был националистом и ксенофобом, что также вызывало определённые подозрения. Обычный национальный нонконформизм советская власть считает [писано это было в 1987 году. – О.Б.] сравнительно безопасным и, в общем, умеет приспосабливать его к своим нуждам. Кстати, я не встречал особенного сочувствия и со стороны фрондирующей литовской интеллигенции.»
Профессионалом – в частности, в филологической науке – Венцлова, уехав на Запад, благополучно стал, – хотя скорее вынужденно: надо было зарабатывать на хлеб, пришлось окончить аспирантуру Йельского университета, защитить диссертацию и тридцать пять лет подряд заниматься (с удовольствием) преподаванием. Важно, однако, что изначально, в пору самоопределения он не соглашался в полной мере принадлежать не только к профессиональным кругам, но, что менее тривиально, даже к ценностным общностям (хотя не уклонялся от участия в том, что считал важным, – например, в правозащитном движении, в работе литовской Хельсинкской группы). Он не укладывался в типовые ожидания. Он не хотел быть приспособленным ни к чьим нуждам.
Интересно, что он даже уезжал не по политическим соображениям, хотя внешне это выглядело именно так – и сопровождалось открытым вызовом властям. В книге мы найдём подтверждающие это документы: написанное в 1975-м «Открытое письмо ЦК Компартии Литвы» с требованием разрешения на отъезд («В этой стране я не могу заниматься публичной литературной, научной и культурной деятельностью. Любой гуманитарий в Советском Союзе вынужден постоянно подтверждать свою верность господствующей идеологии, иначе он не сможет работать. Такой порядок способствует процветанию приспособленчества и карьеризма. Думаю, он неприятен даже убеждённым марксистам. Для меня он попросту неприемлем.») и сделанное уже с той стороны границы (1977) «Заявление для печати и радио» по поводу лишения его советского гражданства.
На самом деле (советское время было устроено так, что) политическую форму, форму политического несогласия в те поры принимала – и даже, пожалуй, с изрядной неизбежностью – сама потребность в широких контекстах, тоска по ним. Случай Венцловы, кажется, – именно таков.
При всей своей восприимчивости и универсальности Венцлова, однако, – никоим образом не гражданин мира, не человек ниоткуда, не «человек вообще». Он и не мыслил преодолевать своей изначальной принадлежности. Он, живущий в Америке и в Литву возвращаться не расположенный («…в Америке у меня есть определённые обязательства и я уже очень с ней сроднился»), повторяю, – именно литовец. И даже так: он уехал из советской Литвы, чтобы тем полнее, тем интенсивнее быть литовцем. Кажется, получилось.
Он – живое свидетельство того, что принадлежать к своему народу можно, живя где угодно: это, в некотором смысле, вещь целиком внутренняя. По крайней мере, в случае Венцловы. Настолько, что даже ностальгия – «обычное состояние эмигранта» – осталась ему незнакомой. «Литву и литовский язык я сохраняю в своём сознании.» Уехав, Венцлова отдал много сил тому, чтобы познакомить мир с культурой своей страны: «выступал с лекциями о литовской культуре в Копенгагене, Токио, Дакаре, Каракасе, Хобарте (Тасмания)…», вёл в Йельском университете курс литовского языка, читал стихи и лекции в местных литовских общинах. И тем ещё более, что теперь, после краха Советского Союза, он бывает в Литве по нескольку раз в год. «Такое состояние трудно назвать эмиграцией». Транскультурностью, мультикультурностью, тем самым посредничеством – пожалуй.
Мысля категорией «мировой культуры», Венцлова, однако, вообще невеликий сторонник «универсальности» и «всечеловечности», – он, напротив того, весьма внимателен к локальным смыслам, – в особенности, конечно, литовским. «…малые нации, – считает он, – особенно расширяют возможности мировой культуры, потому что их культурный потенциал (так сказать, исторически данное им количество „культурных штатных единиц“), как правило, не связан напрямую с их величиной.»
Кроме всего прочего, Венцлове случилось оказаться человеком перелома, перехода и в смысле исторического времени. Собственной биографией он соединяет советскую и постсоветскую эпохи – времена с принципиально разной не только социальной, но смысловой, символической организацией. У каждой – своя совокупность задач, своя система культурных практик (свой тип возделывания культурного пространства, так сказать). Венцлова владел и владеет практиками обоих типов.
Жалко, что тексты в книге – вообще охватывающие период с середины семидесятых до нынешней середины 2010-х – даны не в хронологическом порядке (и не у всех указаны даты написания). Это позволило бы проследить эволюцию, от эпохи к эпохе, интонаций, тем, направлений внимания, – если таковая была. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что существенных перемен за эти десятилетия мировосприятие автора как раз не претерпело. Если попытаться коротко сформулировать их суть, можно, пожалуй, сказать, что это – тесная связь трёх принципов: культуры (понимаемой как дисциплина и рефлексия), свободы и правды. (Вообще, он сторонник единства эстетики и этики, по меньшей мере – прямой и сущностной связи между ними. Поэзия для него этична уже самой своей формой: «Мне кажется, жёсткая стихотворная структура, уравновешенность компонентов, смысловые связи, противостоящие случайности или вчерашнему декрету властей, – одно из условий, обеспечивающих отпор информационному шуму и небытию во вселенной. Важно отыскать единственный путь между любовью и ненавистью, традицией и протестом против неё; важно освободить язык, не сползая ни в репертуар старых или новых клише, ни в хаос и деструкцию. Таким образом эстетика вновь объединяется с этикой». ) Кстати, именно так – «Свобода и правда» – назывался первый сборник публицистики Венцловы, вышедший в 1999 году на русском языке.
2015
Вдоль швов и разломов8
Андрей Шарый. Балканы: окраины империй. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.
Сборник эссе журналиста и писателя Андрея Шарого о Балканах – уже третья из формально не объединённых в одну серию, но укладывающихся в одну смысловую линию его книг о европейских культурных регионах: первой из них стало созданное в соавторстве с Ярославом Шимовым «историко-публицистическое», как говорит сам автор, исследование об Австро-Венгрии «Корни и крона» (2010), а затем – написанная уже единолично книга «Дунай: река империй» (2015), «с обобщением опыта многолетних путешествий по дунайским берегам». Новая, «балканская» его книга, едва выйдя, успела стать проблематичной, вызвать у некоторых читателей отторжение и, более того, оказаться запрещённой в Украине на основании якобы имперских амбиций автора9.
Нет никаких сомнений в том, что Шарого интересует влияние империй на включённые в них народы – как, впрочем, и обратное влияние разных народов на поневоле доставшуюся им общеимперскую жизнь (именно эти проблемы он и рассматривает на материале Центральной и Юго-Восточной Европы во всех трёх книгах обозначенной тематической линии под разными углами зрения – и, кстати, для получения объёмной картины хорошо бы читать их подряд). Но чего мы у него точно не обнаружим, так это имперских амбиций. Тем более российских.
Он категорически не прославляет ни одной из подчинявших балканские народы империй и даже не смещает центра своего внимания в сторону конструктивных аспектов воздействия каждой из них на местную жизнь (хотя при желании обнаружить такие аспекты не так уж не трудно). Он всего лишь рассматривает многообразные последствия этих воздействий – преимущественное внимание уделяя как раз тем из них, что наиболее проблематичны.
Ну да, никуда не деться от того факта, что – как пишет автор в аннотации к книге – «Россия в течение трех веков отстаивала на Балканах собственные интересы». Но историческая судьба региона вообще такова, что он испытывал на себе множество очень разных влияний: в этой части Европы, как сказано там же, на протяжении многих веков «западные и восточный христианские обряды противостояли исламскому и пытались сосуществовать с ним; славянский мир искал взаимопонимания с тюркским, романским, германским, албанским, венгерским». Книга, собственно, об этом. О том, что «на Балканах сошлись главные цивилизационные швы и разломы Старого Света» – из-за которых регион не раз оказывался «пороховой бочкой Европы»10.
Броское её название не то чтобы вводит в заблуждение (хотя, как видим, некоторых в него уже и ввело), но, совсем уж строго говоря, вообще-то не вполне точно. Книга – не о (как будто первичном) центре и его (по идее, вторичных) перифериях, не о первого и второго сорта территориях (народах, культурах…) Она – именно о «швах» и «разломах», о переходах и перекрестьях, о соединяющих и разделяющих силах, о природе целого, состоящего из разнородных частей, о процессах его срастания и распада. Прослеживая конфигурацию швов, структуры конфликтов, неминуемо возникающих вдоль этих линий, автор говорит и попросту о том, как люди с этим живут, как выглядят быт и нравы, образуемые взаимоналожением моделей существования с разными историческими корнями, каково это на ощупь.
При этом Шарый совсем не отрицает периферийного статуса Балкан, однако с самого начала обращает внимание на его плодотворность: «Это всё правда: до сих пор балканские страны по большому счёту томятся в прихожей „Старой Европы“, но ведь если течёт в теле европейской цивилизации новая и свежая кровь, то эта кровь – балканская. Вот вам Марина Абрамович, вот вам (молодой) Эмир Кустурица, вот вам упаковавший мир в обёрточную бумагу Христо, вот вам нобелевские лауреаты Иво Андрич, Элиас Канетти и Орхан Памук [Ой. Турция, выходит, у него тоже Балканы? – Но главы о ней в книге мы всё-таки не обнаружим. – О.Б.], вот Исмаил Кадаре [кстати, албанской главы в книге тоже не найти. Косовская – есть, а албанской нет. Так Балканы Албания или нет? – О.Б.], вот постсоветский кумир Милорад Павич, вот Константин Бранкузи и Эжен Ионеско [чтооо? Уже и Румыния – Балканы? – О.Б.], вот Мария Каллас и Вангелис, наконец [как? неужели и Греция – тоже?.. – О.Б.].»
Ну, по крайней мере из приведённой цитаты нам ясно ещё и то, что Балканы, в представлении автора, в некотором смысле шире самих себя, – и да, они – область с проблематичными границами. И это само по себе совершенно справедливо.
(«Периферия», показывает Шарый, – вследствие самих структур своего существования более восприимчива. Более, чем нормообразующий, нормозадающий, нормодиктующий центр, она чутка к разным видам Другого – то есть, не укладывающегося в рамки задаваемой нормы, с которым – иноязычным, иноэтничным, иногосударственным, инобытовым, иноритмичным… – существует в постоянном соприкосновении. Она – мембрана, определяющая, что из проникающего сквозь неё чужого культура в целом возьмёт для строительства себя и своего и чего не возьмёт.
Пограничье как нарочно существует для проблематизации центра; «своего», привычного и нормативного вообще. Область инфильтрации «чужого» в «своё», плодотворного и конфликтного смешения элементов – и неминуемо повышенной конфликтности).
«Политико-национальная композиция Балканского полуострова и вправду запутанна и сложна. К потомкам здешних „автохтонных“ народов относят албанцев, предками которых некоторые учёные умы считают племена иллирийцев (точнее, дарданцев) и греков. <…> К „первопроходцам“, грекам и албанцам, в ряде исследований добавляют ещё и румын. В Бухаресте этногенез этой нации выводят из взаимной ассимиляции дако-фракийских племён и римских легионеров – потомки тех и других якобы на века укрылись от завоевателей-варваров в Карпатских горах, чтобы затем в подходящий момент вернуться на равнины. <…> Первые волны тюрков-кочевников проникли на Балканский полуостров примерно в середине IV века, когда началось Великое переселение народов, а славянские варвары появились на периферии Византийской империи и Аварского каганата на полтора или два столетия позже…»
Подобно «дунайской», эта книга Шарого тоже стала результатом его многолетних странствий по балканским странам: и не только тех поездок – «6 000 км и почти 500 км пешком»,11 – которые автор предпринял специально для её написания, но и всех тех двадцати пяти лет, на протяжении которых он занимается исследованиями региона и вообще взаимодействует с местной жизнью.
Пограничной сущности Балкан соответствует и не менее пограничный жанр текстов, которыми автор пытается уловить их специфику. Каждое из составивших книгу десяти эссе сочетает в себе признаки травелога – хронику личных (то есть заведомо неполных и случайных) повседневных, бытовых впечатлений путешественника – от первого лица, с разговорными интонациями, – записи разговоров с теми, кто встретился по пути, пережитых ситуаций, – и очерков исторических, географических, социологических, экономических, антропологических… В каждую из глав, кроме того, вставлены рубрики «Дети Балкан» (биографические очерки о тех, без кого немыслима историческая память здешних народов. Причём не все из упоминаемых под этой рубрикой – «дети Балкан» в строгом смысле: так, например, Юлия Вревская, считающаяся в Болгарии «культовой гуманитарной фигурой», – дочь русского дворянина польского происхождения, ставшая во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов сестрой милосердия) и «Балканские истории» (соответственно, отдельные сюжеты из этой исторической памяти: «Как Бузлуджа стала горой героев», «Как снимали фильм о войне и победе», «Как султан разрушил боевое братство»…).
Шарый почти не теоретизирует (вернее, он это делает тонко, очень ненавязчиво) – он, главным образом, собирает наблюдения и факты. Совмещает два плана, резко их переключая: крупный – личный опыт – и общий, взгляд «с птичьего полёта». Да, у него, конечно, есть приоритеты, он – что для путевых записок совершенно нормально – позволяет себе быть пристрастным, высказывать оценки, симпатии и антипатии – к чему угодно, хоть к городской среде («Я помню Скопье на рубеже веков: типичный для Балкан хаотичный город, едва ли не с фундаментов отстроенный после землетрясения 1963 года, выглядел бедненько и не слишком чисто, в полном соответствии с канонами позднесоциалистической архитектуры – холодные партийные здания, безликая жилая застройка, пренебрежение к уюту пространства, увлечение брутализмом. Теперь в центральных кварталах всё иначе: богато и нарядно, в том смысле, какой в богатство и роскошь вкладывают в осознавшей свою ценность провинции»). В целом же то, что выговаривается в этих легко, почти разговорно написанных (и при этом весьма насыщенных) текстах, – не столько историософия или теория культуры, сколько историопластика, историотектоника. О судьбах народов и культур здесь говорится – во многом на живых примерах – как о движении геологических плит.
«…именно на Балканах столкнулись углами тектонические плиты ислама, православия и западных христианских конфессий. И именно эти европейские фронты (всегда в течение последнего тысячелетия и до сих пор) даже важнее просуществовавшего всего полвека железного занавеса».
Книга также – о природе общности исторических судеб, о самом явлении «исторической судьбы», формообразующей, придающей разнородному общие черты. «Балканы», показывает Шарый, – общность не просто надэтническая: она во многом ещё и сконструированная (то есть – символическая). «Балканы» – это вопрос (и результат) оптики, – возникшей притом исторически совсем недавно.
На символичную природу «балканства» указывает и то, что деление книги на главы лишь отчасти совпадает с политическим делением полуострова. Каждая из глав соответствует, скорее, культурному региону (как, предположительно, некоторой цельности): Македония, Болгария, Косово, Босния-Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словения, но отдельно – Воеводина (Vajdaság, «венгерское славянство») и Далмация. Словения же в географическом отношении вообще никакие не Балканы, она – уж скорее Альпы. Признавая, что «Балканы в Словении, честно говоря, почти никак не просматриваются», Шарый тем не менее включает в книгу словенскую главу на равных правах с остальными – правда, последней, выводящей читателя уже за пределы региона. Потому что – общность судьбы.
Автор мыслит не столько географически – и даже не очень политически – сколько культурологически: модусами существования и самовоображения В каждом из выделенных регионов он видит отдельный модус славянского (да и не только славянского – см. главу о Косове с его албанским населением) существования. – Что ни область, то собственный его вариант, осуществление на местном этническом материале, его средствами и в рамках его возможностей той или иной темы (Болгария – «славянское царство», Косово – «славянский мираж», Босния и Герцеговина – «славянский намаз», Сербия – «славянское зеркало»…). Балканы – тема, существующая не иначе как во множестве вариаций. Шарый в названиях глав хоть и настаивает как будто, что все эти вариации – славянские, но на самом-то деле они надславянские, надэтничные.
Да, исследуемый регион занимает автора как явление, прежде всего, символическое (в том числе, и не в последнюю очередь, в его собственной голове); как – прямо говоря – миф. «Балканы всегда были и, наверное, навечно останутся непонятным для рационального ума мифологическим пространством». Излишне говорить, что мифологичность и непостижность рациональному уму – свойство исторических общностей вообще; во всяком случае, Шарый даёт увидеть, как миф о Балканах работает. Он показывает этот миф как предмет непосредственного, повседневного, чувственного проживания (взглянуть хотя бы хотя бы на вступление к книге с описанием того, как автор со товарищи карабкался на Олимп – одно из символических средоточий Европы). Это символичность, инкорпорированная как телесный опыт, оплаченная собственными усилиями.
Кроме того, Балканы интересуют его как символический фонд, как форма самоосмысления Европы, одно из условий и орудий этого самоосмысления. («Балканы», показывает Шарый, – это ещё и история европейского самопонимания, важная глава этой истории – а не одно из подстрочных примечаний к ней.) Теперь это орудие кажется нам совершенно необходимым, вопреки своему совсем недавнему происхождению – которое уже само по себе делает его проблематичным.
«Балканы» – исторически поздний конструкт (ещё каких-нибудь двести с небольшим лет назад, пишет Шарый, никто в Западной Европе и понятия не имел, что такое «Балканский полуостров» как самостоятельная цельность – не было такого концепта); в большой исторической перспективе – прямо-таки исчезающе-поздний: это ментальный и символический феномен Нового Времени, которое, в общем-то, едва успело закончиться как эпоха – психологическая, эмоциональная дистанция между ним и нами ещё не так велика. (Происхождение же общего имени региона – вполне случайно, – а ведь как закрепилось, какую обрело формообразующую, даже принудительную силу!) Следовательно, понятие «Балкан» – ещё не такое зрелое, как, может быть, стоило бы. Оно по сей день перенасыщено чувством актуальности – которое, как известно, не способствует взвешенности и объективности суждений.
Но таковы и сами Балканы. Здесь ещё ничего не закончилось, не устоялось. Тектонические плиты разъезжаются и теперь, мы слышим их гул и чувствуем толчки под ногами.
2019



