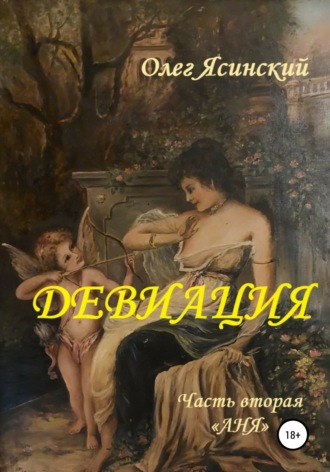
Олег Валентинович Ясинский
Девиация. Часть вторая «Аня»
Я кивнул, опустил глаза.
– Ничего страшного – так и должно быть. Не стоит об этом.
Алевтина взяла со стола подаренную книгу, осмотрела, даже понюхала (как я!).
– Ах! Ахматова! Всю-то ты меня знаешь, Эльдар: мысли потаённые, желания. Никто меня так не знает, как ты – ни дети, ни муж. За это тебя люблю.
Раскрыла книгу, пробежала глазами пару строчек, затем захлопнула, по памяти зачитала:
– Оба мы в страну обманную
Забрели, и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?..
Не размыкая губ, улыбнулась, глаза повлажнели. Тихонько, сдавленно продолжила:
– Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Голос дрогнул. Уголки синих, как у Ани, глаз наполнились слезами. Капелька сорвалась, покатилась, оставила блеснувший от подслеповатого окна след. Затем вторая – по другой щеке.
– Дальше помнишь? – Алевтина прищурилась, сдерживая слёзы. Отложила книгу на бюро.
Я помнил, но не признался. Повертел головой.
– Не покину я товарища и беспутного и нежного… – уже всхлипывая, промолвила. Бросилась ко мне.
Охватила за шею, прижалась. Некрасиво, с подвыванием, зарыдала – маленькая, несчастная. Обнял её за плечи, погладил по голове, бессвязно зашептал, как ребёнку.
От моего воркования ещё больше разревелась.
– Думаешь, я не чувствую, что тебе в тягость? – шмыгая носом, лепетала Алевтина. За всхлипами слова размазывались, проступали отрывисто, непонятно. – Что нужно тебе – не могу… Не могла. Ты понимаешь? У меня муж, трое детей. Я никогда, веришь, никогда… Даже не могла допустить! Ты давно бы перестал приходить, но тебе меня жалко. Да?
– Нет.
– Не лги! – зарыдала. – Ты думаешь, я беспутная? Я никогда такой не была! Ни с кем. Кроме тебя…
Ничего не ответил. Обнимая вздрагивающие плечи, силился найти слова, которые утешат, успокоят. На ум приходили банальности – не мои, вычитанные, – а потому ненужные. Лучше молчать.
Я уже жалел, что поддался уговорам Пьеро и пришел, но мелодрама предполагала финал, потому глупую роль нужно играть до конца.
Притиснул Алевтину, тронул губами мокрую щёку.
– Наши отношения заведомо обречены на страдание, – сказала Алевтина. – Я понимаю. Ничего не нужно было начинать.
Отстранила меня, пошарила в ящике стола, взяла платочек. Тихонько высморкалась.
– Я тебя отпускаю, – произнесла еле слышно, не поднимая головы, аккуратно складывая платочек. – Вот мы сейчас выпьем, потом ты уйдёшь. И больше не придёшь.
– Я приду.
– НЕ-НА-ДО! От этого лишь больнее станет.
Опять высморкалась, села за стол. Я придвинул ближайший стул, опустился, решительно развернул Алевтину к себе лицом. Взял её ладони.
– Не смотри на меня так близко – я старая и некрасивая, – шмыгнула носом, вымученно улыбнулась.
– Вы самая красивая, – соврал я.
Она и вправду была некрасивой: тушь потекла, оттенила морщины, серые бороздки пролегли по щекам, на кончике носа проступила мутная капля, сорвалась, упала в ложбинку меж грудей.
– Можешь смотреть, не притворяться. Мне всё равно… А почему ты мне «выкаешь»? – Подняла глаза.
– Потому… – залепетал, силясь придумать что-нибудь правдоподобное.
– Не «выкай». Сейчас я – Алевтина. Для тебя – Алька. Понял? Тем, кому лазают под юбку – не выкают.
Повела плечами, отстранилась, посмотрела на меня.
– Что молчишь? Правда глаза колет? – сказала отчаянно. – Впрочем, правильно делал – я сама хотела. Только ты несмелый. Вот, мы сейчас выпьем, а потом… – не договорила, отвернула голову.
Я не понял. Затем понял!
Из норы взвизгнул Демон, но тут же замолк, слипся, растворился в тягучем противном ужасе, который искорками-иголочками охватил сердце.
Алевтина заметила или почувствовала.
– Я так ХОЧУ. Это мой подарок САМОЙ СЕБЕ в день рождения – сделать давно желанное. Лишь раз. Больше такого не будет. Потом ты уйдёшь. Обещаешь?
Я кивнул. Что было делать? Убежать? Приняться отговаривать?
Сбывались детские мечты. Но лишь страх и стыд вместо радости победителя, который достиг, снискал, «уломал» – как говорит Юрка. Единственное, что чувствовал к этой женщине – жалость.
Знал, что нужно утешить, объясниться, но от неожиданности забило дыхание: как несчастная рыба, выброшенная на берег, я шевелил губами – звуки растворялись в липкой немоте.
Я уже её не хотел: жертвующую, покорённую. «У тебя, банально, не встанет, как летом, с Зиной…» – брезгливо подсказал Гном.
– Оба мы в страну обманную забрели, и горько каемся… – думая о своём, промолвила Алевтина, возвратила в реальность. – Пошли, выпьем за моё здоровье.
Решительно поднялась со стула, взяла меня за руку, как сонного ребёнка повела в подсобку: маленькая, сутулая, едва достававшая мне до плеча.
Праздничный стол был устроен из небольшого фанерного плаката, который продолжал призывать к победе Коммунизма. Он занимал всё свободное пространство крохотной комнатки, заставленной аккуратно сложенными стопками списанных книг, наглядной агитации и бумажного хлама. Возле стола втиснуты два плотно прижатые табурета.
«Где тут она собирается делать себе подарок?» – недоверчиво подметил Гном.
– Садись, – сказала Алевтина, чувствуя моё состояние.
Я послушно сел.
Она молча вынула из бутылки пластмассовую пробку, налила до краёв две граненые стопочки пахучего самогона. Я вспомнил, что на столе, в книжном зале, осталось вино, но перечить не стал – происходящее казалось сном.
Закончив приготовления, Алевтина села, подняла рюмку.
– Тостов мне не надо. Сама скажу, – промолвила, наблюдая, как я неуклюже, дрожащей рукой взял свою.
– Я хочу выпить за то, что судьба подарила мне эти два месяца. Счастливых. Которых у меня не было пятнадцать лет. И ещё за то, чтобы мне хватило силы оборвать помешательство, вернуться обратно. Пока не случилось беды.
Стремительно чокнулась, надхлебнула. Затем, брезгливо морщась, мелкими глотками высосала до дна.
– Ну и гадость!.. – выдохнула Алевтина, зажмурила глаза. Наслепо ухватила из блюдца бутерброд.
Я выпил, поставил рюмку на стол. Принялся закусывать. Самогон как самогон, только крепкий. А она же говорила, что совсем не пьёт… Хочет упиться, чтоб сделать обещанное? Не надо мне такой жертвы.
– Зря вы так. Водка хорошая, – промычал сквозь разжеванную гренку.
– Опять «выкаеш»! Я же просила… Алька! А ну скажи!
Я замялся. Даже в самых похабных фантазиях так её не называл. Было в той «альке» что-то пренебрежительное, доступное. Бедная, бедная женщина…
– Чего замолк?
– Не могу.
– А под юбку лазать мог? – глумливо сощурилась Алевтина, превращаясь в Альку. – Колготки порвал… Ты знаешь, сколько они стоят?
– Я верну…
– Что ты вернёшь! Мальчишка! Мне ещё мужики колгот не рвали, а ты – порвал. Хоть будет что вспомнить… Как меня зовут?
– Алька… – нерешительно сказал я, опустив глаза.
– Молодец! – Алька-Алевтина кивнула. – Так вот, молодец, о чём мы с тобою говорили?
– О водке. Хорошая она у ва… у тебя.
– Алкоголь хорошим быть не может по определению. Эта гадость – одно из самых страшных открытий. Помимо людей алкоголь в своих корыстных целях используют ломехузы.
– Что?
– Не «что» а «кто». Ло-ме-ху-зы. Жучки такие. Паразиты. Проникают в муравейник, откладывают яйца. А когда муравьишки узнают чужака, то ломехуза выделяет особое вещество, которое муравьи тут же слизывают и впадают в состояние эйфории. Пьянеют. Как я сейчас.
Алька отложила недоеденный бутерброд, вытерла губы салфеткой.
– В результате в муравейнике происходит разброд. А ломехуза проникает вглубь муравейника и съедает личинки. Это я читала. Я много читаю. Мне только и остаётся читать.
Женщина стремительно пьянела: глаза заблестели, речь размазалась.
Взяла бутылку, снова наполнила рюмки.
– Ты закусывай. Там ещё бутерброды есть. А вот огурчики солёные. Закусывай, – подала тарелку.
– Спасибо.
– Закусывай, опьянеешь. Я, вот, совсем пьяная. Но ещё буду! Я хочу опьянеть! У меня сегодня поминки по любви. Давай!
Алька подхватила рюмку, снова, не чокаясь, выпила. Зажмурилась, понюхала краюшку хлеба, захрумтела огурцом. Я тоже приложился, взял бутерброд.
– Ты мой змей-ис-скуситель… – размазано сказала Алька, – приведший к грехопадению.
– Ещё не приведший.
– Давно приведший. Ещё тогда, лет восемь назад. Когда в библиотеку стал ко мне ходить. Но ты книги больше всего любил, а я тебя полюбила.
Подняла мутные глаза, оттенённые серыми разводами протекшей туши, уставилась с вызовом.
– Ты маленький ПЛОХОЙ мальчишка, который свёл меня с ума. Лет тринадцать тебе было, как Ане сейчас… Я прикоснуться к тебе боялась.
«Ну и зря!» – буркнул захмелелый Демон. Краски стали ярче, стены нашей норки раздвинулись, страх уходил, проступало желание.
Я смело обнял Альку за талию, притянул к себе. Она вжалась, положила голову мне на плечо.
– О таком нельзя рассказывать. Знаю… Но с завтрашнего дня мы станем чужими. Это как умереть. Так что можно. Сегодня нам можно ВСЁ…
На полуслове замолкла, обречённо подняла глаза. Почувствовал, как её рука легла мне на бедро. Сначала несмело, по чуть-чуть, но затем решительно продвинулась к набухавшему естеству. Но не охопила, остановилась у самого края, – лишь пальчиком коснулась, чуть придавила. Палец не убрала.
– Знаешь, а я – шлюха! Не наяву, а вот тут – в голове, – Алька свободной рукой стукнула себя по лбу. – Порой такого хочется, чего у меня никогда не было. Но не со всеми – с тобой. Я твоя шлюха.
Алька заурчала. Уже не таясь, наложила пальцы, сжала властно, больно.
– Что ты со мною делал: трогал, лапал, щупал, тискал, обжимал, давал волю рукам? Видишь, сколько знаю слов, когда даме лезут под юбку… Я же начитанная, – Алька захмелело шмыгнула носом, но пальцы не расслабила.
– Не обращай внимания. Я пьяная. Почти мёртвая. Мне сегодня можно! Да?
Я кивнул. Демон пробуждался, обретал силу.
Притянул Альку к себе. Уже не сдерживаясь, пододрал и так съехавшее платье, сунул руку под подол, дотронулся к горячей промежности, собрал в горсти.
Женщина сладко потянулась.
– Вот так… – выдохнула. – Ты маленький шкодник… Нельзя ТАМ тётю трогать… А почему ты за два месяца дальше не полез? В трусы? Знаю – хотел. Ох! как хотел – я чувствовала.
– Так вы же…
– Не «ВЫ», а «ТЫ», – Алька оторвала руку от закаменелого приапа, стукнула меня кулачком по ноге, положила руку обратно, принялась поглаживать сквозь джинсы – Не давалась? Но ты же мужчина! Взял бы, наклонил, поддёрнул юбку, уткнул головой в книжную полку и делай своё мужское дело. Ты не мужик – ты ра-з-ма-з-ня! Только, я всё равно тебя люблю, потому, что ты мой маленький читатель – пьяно потянулась, уткнулась носом мне в щёку, но не поцеловала – отстранилась.
– Наливай!
Я высвободил руку из-под платья, налил стопки. Мы выпили.
– Вот, что мы сейчас с тобой делаем? – серьёзно спросила Алевтина, будто отрезвев от очередной дозы.
– Ну… – запнулся я. – Празднуем день рождения… твой.
– У-у, – мотнула головой Алевтина. – Ответ не правильный. А что будем делать?
Я молчал. Не озвучивать же того, что озвучивать не принято.
– Не знаешь? – хитро прищурилась. – Мы «любимся», чтоб ты знал. На украинском: кохаємося. Слово-то, какое хорошее, а?
– Замечательное! – Обнять её за талию.
– Подожди! – Алевтина отстранилась. – Я серьёзно говорю. Вот, смотри. В каждом из нас сидит что-то такое, стыдное, о котором никому не расскажешь, которое нужно таить. От себя – в первую очередь. Я права?
– Да.
– Потому что, если оно вырвется, то, люди осудят: родня там всякая, муж-дети, знакомые, прочие советчики. И тогда жизнь пропащая… И душа сразу в ад покатиться. Так?
– Ну…
– Подожди, дай закончить. Так вот, без этого, стыдного, о чём самой себе признаться боюсь – куклой становишься. Заводной куклой Машей, которая шагу не может ступить без заводской инструкции. А порою так хочется ступить… Если б ты знал! – Алька посмотрела на меня.
– Я знаю.
– Ты меня хочешь? Или УЖЕ не хочешь?
– Хочу.
– А я тебя люблю! И буду любить всегда!
Она резко встала, толкнула ногой табурет. Тот опрокинулся, разметал стопку книг.
Алька присела на корточки у моих колен. Дрожащими руками принялась расстёгивать джинсы. Ремень застопорился в петельке, не поддавался. Мне бы помочь, но словно заколдованный, мигом протрезвевший, лишь отрешённо наблюдал. Только и хватило силы вжать живот, ослабить пряжку.
Всё когда-нибудь сбывается, если очень хотеть. Сейчас сбывались мои детские мечты, но радости особой не чувствовал. Было стыдно.
Как я могу пользоваться слабостью бедной женщины! Но оттолкнуть сейчас – выйдет только хуже. И сидеть мумией глупо.
Протянул руку, дотронулся груди, легонько сжал в горсти.
Этого мало!
Запустил руку в декольте, поддел бюстгальтер, охопил ладонью небольшую дряблую грудку. Потискал.
И этого мало!
Раздвинул платье на плечах, сдвинул бретельки, дёрнул вниз мягкую, отороченную кружевными завитками чашечку, высвободил грудь на волю. Она стыдно повисла: молочно-белая, в голубых прожилках, в некрасивых бледно-розовых растяжках, с кофейной пупырчатой ареолой, увенчанной пуговкой твёрдого соска. Вынул вторую. Принялся разминать, пощипывать. Захотелось впиться ногтями, чтобы Алька взвизнула…
Демон нетерпеливо зарычал, вдохнул новую силу до боли налитому приапу, скрюченному в тесных джинсах, не вызволенному неумелой женщиной, которая… которая старше меня на пятнадцать лет и на семь младше моей матери.
От ужасной догадки чуть было не убрал руки, не оттолкнул. Но Демон удержал: «Сегодня день её рождения…», и я, выходит, – Алевтинин подарок. Она сама того хочет. САМА! Я не виноват.
«Гнусное самоутешение…» – прошептал Пьеро, брезгливо скривил губки, но и он понимал, что прервать этот ужас – лишь навредить хорошей женщине, которая призналась в любви. И как ей не легко это далось, как страдала она и маялась, и сейчас мается, затуманившись отравой.
Вспомнил, как Алевтина на концерте меня не замечала, как ворковала с мужем, поправляла дочке съехавший бантик. Как хлопала, когда первоклашки шепеляво желали исполнения желаний в наступающем году. А теперь…
Теперь наши потаённые желания сбылись. Только почему так с души воротит?
Почему романтика обратилась безобразием?
Почему моя бессмертная возлюбленная из детских грёз – зачарованна, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана – сидит на корточках, как порочная женщина из стыдного журнала, болтает обнажёнными некрасивыми грудями, не таится, не сводит ноги?
Почему так настойчиво пальцами, даже зубами, пробует расстегнуть заклинивший ремень, чтобы добраться до того места, которым заканчивается романтика, какими бы высокими рифмами и девичьими мечтами она не начиналась?..
Ремень поддался, щёлкнула пряжка.
Настойчивая рука расстегнула пуговицу, затем молнию. Притронулась.
Сейчас…
На окраине затухавшего сознания едва слышно тренькнул звоночек.
Я смутно проявился в окружающем мире, насторожил ухо: в книжном зале раздавались шаги, приглушённые ковровой дорожкой.
Перехватил руку Алевтины, придержал. Женщина недовольно подняла мутные глаза.
– Кто-то ходит в зале… – вязко пролепетала, будто просыпаясь.
Вскочила, заправила груди, одёрнула платье. Я тоже привстал, дрожащими руками принялся застёгивать джинсы.
– Я забыла закрыть двери на замок… – сдавлено выдохнула Алевтина. Поднесла руку ко рту, укусила палец.
Уставилась на меня, будто ища спасения – бедная, затравленная.
Я кивнул. Страх уходил, обратился холодным спокойствием.
Просыпалась Хранительница. Я уже знал, что сделаю. Тоже, что сделал бы с Физичкой, наведайся она в сарай в недавнюю октябрьскую ночь.
Моя уверенность передалась Алевтине. Она прикрыла глаза, обречённо выдохнула, ещё раз поправила платье и вышла в книжный зал.
Я огляделся, поставил на место опрокинутый табурет, поправил тарелки, прислушался: в зале проворковал мужской бас, в ответ заискивающе защебетала Алевтина. Узнал: это был Михаил Павлович, или просто Павлович, или Завклуб – предпенсионного возраста директор местного Дома культуры. Если б он пришёл на десять минут позже…
Дверь подсобки скрипнула, отворилась. Зашла Алевтина, за ней – Павлович. В отличие от мигом протрезвевшей, бледной женщины, был он хорошо навеселе, исходил морозным румянцем.
– Вот тут мы скромно отмечаем, – будто извиняясь, лепетала Алевтина. – Да вы проходите, садитесь. Ещё стул принесу.
Она исчезла в дверях, затопотала по залу, будто спасаясь от предстоящего застолья втроём и склизких, виноватых оправданий перед нечаянным гостем.
Павлович тем временем недобро глянул на меня, протянул руку.
– Здоров будь! – прищурился. – А я-то думаю: кто в подсобке, шебуршит? Может, Фёдоровна полюбовника завела. А то всегда такая неприступная.
– Я поздравить пришёл…
– Ну и ладно.
Павлович сел, достал из расстёгнутого тулупа бутылку покупной «Столичной», поставил на стол. Порывшись в кармане, извлёк полукольцо домашней колбасы, завёрнутое в газету. Откинулся на книжный штабель, хлопнул ладонями по коленях.
– Угощай, хозяйка! – обратился Павлович к Алевтине, которая вернулась со стулом и пыталась втиснуть его меж плакатом и книжными штабелями.
Я подхватил, помог пристроить. Женщина бочком присела.
– Ишь, какой внимательный, – сказал Павлович. – Джентльмен. Ну и правильно. Сейчас джентльмены перевелись, всё кооператоры без чести и совести. Тоже присаживайся, выпьем за здоровье…
– Мне идти нужно, я ненадолго забежал.
Угроза прямого разоблачения, вроде, минула. Но уж очень неуютно мне было в присутствии Завклуба. Он догадался. Сейчас вопросы начнет задавать, в глаза смотреть. Нужно уходить от греха подальше. И неудачливой любовнице моей проще станет, если уйду.
– Садись! – настойчиво сказал Павлович, пододвинул табурет. – Полчаса дела не решают, а день рождения раз в году.
Уже думал отказаться, но Гном шепнул, что препираться сейчас – лишь давать повод к лишним подозрениям.
– Не стесняйся. Без меня, видно, был не таким робким, – язык у Павловича заплетался – Вон, на хозяйке лица нет, растрёпанная вся, заплаканная… Говорят, частенько сюда ходишь, да подолгу книги читаешь.
Павлович уставился на меня, потом перевёл взгляд на Алевтину. Та ещё больше побледнела, опустила глаза.
– Да что вы говорите, Михаил Павлович.
– Это не я, это люди… – начал Завклуб, но тут уже я не выдержал.
– Я готовлюсь восстановиться в институте, где учился до армии – сказал, чеканя каждое слово, держа взгляд поверх его глаз, между бровей, как бы прожигая в затылок сквозь морщинистый лоб – «взгляд Василиска» называется. Это такая штучка, занятный приём. Тоже дед научил. В полную силу никогда им не пользовался – всё тот же дед застерёг. Но на уроках в школе помогало: глянешь на шкодника вертлявого – он и затихнет до конца урока.
– Я готовлюсь восстановиться в институте, – повторил тем же тоном. – Потому хожу. Чтобы не таскать книги домой. Готовлюсь здесь.
Павлович замолк, боязливо уставился на меня, отвернулся, опустил голову. Вот так! Нечего тут в гляделки играть, разведчика строить. Ещё бы треугольник на бесстыдную морду наложить, да мыслеформой переполненного мочевого пузыря огреть. Ладно, пусть остаётся сухим – не чужой: с отцом вместе работали, дома у нас не раз бывал. Первый раз – прощается, – есть такая детская поговорка.
Комнатку накрыла вязкая тишина, лишь табурет скрипел под грузным Завклубом. Алевтина, переводила взгляд то на меня, то на поникшего Павловича, то опять на меня.
В глазах тревога и удивление. Не знала меня ТАКОГО. Пусть не знает.
– Давайте выпьем, – я разорвал немую сцену.
Без приглашения взял со стола принесённую «Столичную», принялся отвинчивать золотую головку.
– Давайте-давайте, – ожила Алевтина. – Сейчас закуски подложу.
Потянулась к сумке, начала выгружать припасы.
Аттракцион удался. Теперь нужно не касаться скользких тем. Да и Павловича не мешало бы со ступора вывести – совсем сморщился, бедный.
– Хороший вы концерт к новогодним праздникам подготовили, – сказал я Завклубу, поднял наполненную рюмку. – Эстрада на уровне, и номера с клоунами удались, особенно, на темы «Перестройки». Чувствуется рука.
– Стараемся, – буркнул Павлович, покосился на меня из-подо лба, взял рюмку. – Давай, Алевтина, за тебя. Добрая ты женщина, душевная. Такие уже редкость. Будь здорова!
Чокнулся с Алевтиной, со мной. Выпил, смакуя. Принялся закусывать.
– А что это ты, Эльдар, так глянул, что всё внутрях похолодело? – опасливо спросил Завклуб.
– Вам показалось, Михаил Павлович. Вы спросили: почему хожу в библиотеку – я ответил.
– Недобрые глаза. Ох, не добрые. Как у матери.
Горячая волна вновь окатила сердце – недовольно шевельнулась Змея. Перехватил тревожный взгляд Алевтины – боится, что не сдержусь. Ещё ей скандала недоставало, и так измоталась.
А Завклуб лезет на рожон! Не дождётся. Первый раз – прощается, второй – запрещается, а на третий…
Я взял бутерброд покрупнее, сунул в рот – принялся усиленно жевать, показывая, что спорить не намерен. Украдкой глянул на Алевтину: бледная, скукоженная. Играет роль гостеприимной хозяйки, улыбается, а в глазах тоска.
Павлович больше не занимал. Предупредительная Алевтина завела разговор о политике – лакомство подвыпившей интеллигенции: вспомнила недобрым словом Горбачёва с Бушем, саммит на Мальте, Нагорный Карабах.
Я жевал, слушал, порою вставлял что-нибудь глупое об окончании холодной войны, а сам думал: как ЗАМЕЧАТЕЛЬНО сложилось. Теперь можно уйти и больше в библиотеку не приходить – Алевтина сама просила. И совесть теперь успокоиться, не станет мучить, и чувство вины отойдёт – она сама так решила.
Сидели до ранних январских сумерек. Затем Павлович предложил Алевтине подвезти домой – им по дороге. Та с облегчением согласилась. Я чувствовал, как она, бедная, не хочет оставаться со мною наедине; даже радуется в душе, что не согрешила в порыве нежности.
Они уехали на старенькой «Копейке», а я неспешно побрёл домой: опустошенный, пьяный, свободный.
Судьба без моей помощи потянула нужные ниточки, размотала клубок. Всем стало хорошо.
Глава восьмая
6 – 9 января 1990. Городок
Утром первой меня встретила похмельная тоска. Под сердцем щемило: не всё так здорово, как вчера, в алкогольных парах, напридумывал.
В мутном зеркале воспоминаний проявилась беспокойная Алевтина, которая пальцами-зубами пыталась расстегнуть непослушный ремень; проявлялись её некрасивые груди, которые двуедино болтались в такт шевелений; проявлялось, как я их разминал деревянной рукой, хотел больно ущипнуть, но не решился.
Во власти утренней налитости я уже жалел, что НИЧЕГО у нас не случилось, что припёрся Завклуб, который зло шутил, строил правдивые догадки и чуть не довел до греха. Однако Гном, запутавшись в завитушках похмельной боли, попискивал: «Хорошо, что пришёл, поскольку случись ЭТО – жизнь потекла бы в иное русло, в холодную бездну, из которой нет возврата».
Гнома перебил Демон, оглушил мохнатым хвостом, запричитал: «Нужно во что бы ни стало овладеть проклятым Карфагеном! нужно его разрушить!».
Я лихорадочно уцепился за демонское желание, взялся мудрить, придумывать, где бы подловить Алевтину – хоть в библиотеке, хоть в подворотне. При этом не мычать уже, не телиться, а наклонить, уткнуть головой в книжную полку, как сама хотела, пододрать платье… Чем больше размышлял о том под довольное Демонское сопение и щемящие судороги закаменелого приапа, тем мерзостнее становилось на душе. Уже слышал, как со скрежетом расходятся створки адских ворот, куда раскалёнными баграми тянут мою пропащую душу.
Стало невыносимо паскудно, запекло раскаяньем.
Упал на колени перед иконой Спасителя, трижды пролепетал Покаянный псалом. Мне было жаль Алевтину и себя, и наш бестолковый роман, который ни к чему бы путному не привёл. А ещё жаль, что все ниточки, связывающие с Аней, оборвались.
Затем накатила вина. Я уже знал, что опять пойду в библиотеку, увижу ЕЁ, расспрошу, утешу, извинюсь. И ещё много-много чего, потому как жить с этим, недосказанным, не смогу.
Остаток субботы и воскресенье превратились в ожидание. В субботу она работала, но не пошёл – в выходной постоянные посетители. И позвонить в библиотеку не отважился по той же причине. А домой тоже не позвонишь – трубку может взять муж или Аня. Хуже, если Аня. Что спросить: как дела у мамы?
В понедельник Аня сама позвонила.
– Эльдар Валентинович? – холодно переспросила девочка.
– Да… – узнав голос, рухнул на табурет.
– К маме в библиотеку больше не ходите.
– Почему?
– Не ходите и всё.
– Что случилось?
– Отец ругается. Он против вашей дружбы. Вчера скандалил.
– Из-за меня?!
– Да.
– Что он говорил?
Аня не ответила. Дышала в трубку.
– Ей плохо?
– Да. В библиотеку к маме не ходите. Я вас прошу. Она вас… Она к вам очень хорошо относиться. Но, не ходите.
– Расскажи…
В трубке щелкнуло, заныло короткими гудками.
– Алло! Аня!..
Ей не о чем со мной говорить.
Положил трубку. Спотыкаясь, поплёлся в келью, рухнул на диван.
Так и должно быть – каждому по делам его! Я приношу боль и страдание, тем, кто меня любит. Как прокажённому, мне нельзя к людям.
Я больше тьма – чем свет. Я должен сгинуть в этой тьме, в норе, в пещерах, в дальнем монастыре, утратив имя и название.
Но к Алевтине схожу. В последний раз.
В полубреду дождался ночи. Перечитал «Врата рая» – тягучую повесть Анджеевского в одно предложение. Гигантская суперфраза длилась-длилась, обволакивала, рождала догадки, оглашала приговор: чем одержимее тянусь я к любви и добру, тем глубже вязну во зле. Мои врата Рая обращаются входом в ад.
Во вторник, девятого января, с утра побрёл в школу. У школьников каникулы, но дома умру, как издохли мои населенцы – Гном, Пьеро и Демон, обессилев от взаимных упрёков. Лишь Змея тихонечко урчала, успокаивала: нынешние метания – суть томление духа, лишь путь, уроки; главное – впереди. Издевалась, гадина.
В школе засел в пионерской комнате, пялился на стенды, комкал Анин платочек в бурых пятнах – реликвию из прошлой жизни. В сотый раз строил догадки: что могло случиться с Алевтиной? Вспомнил, как месяц назад Аня на уроке ко мне пришла, сидела на том стульчике. А я – гордый, унылый козёл. Кто мог знать, что так обернётся?
Поставил на проигрыватель скрипучий диск Антонова. Бесконечно сдвигал иголку на единственную песню, в которой лирический тенор не жалел ни о чём, в отличие от меня, жалеющего о бесславном конце, но ещё пуще – о бездумном начинании.
В обед пошёл в библиотеку. К тому времени уже нехотя. После медитации в зашторенной пионерской, где мои страхи-мухи разрослись безобразными слонами, единственного хотелось – раствориться, убежать от всех в те края, где меня никто не знает. Однако шёл. Единственного просил у Бога (или не у Бога; кому теперь служу, после совершённых безобразий?), чтобы Алевтина находилась на работе, чтобы там кроме неё никого не было.
Бог (или кто иной) меня услышал. Алевтина сидела за бюро: одинокая, растрёпанная. Почувствовала шаги, подняла голову.
– Добрый день…
– Ты зачем пришёл?
– Я не мог не придти. Мне вчера звонила Аня.
Алевтина замерла, уставилась на меня опухшими глазами. Заметил плохо запудренную ссадину на правой скуле.
– Это из-за меня? – выдохнул я, заливаясь стыдом.
– Что она говорила?
– Чтобы не ходил к вам… Скандал был.
Глаза Алевтины потускнели, на реснице блеснула слезинка, сорвалась, пробороздила щёку. Женщина вздрогнула, уткнулась лицом в сложённые на столешнице руки. Не сдерживаясь, разревелась.
Подошёл, опустился на колено, охватил Алевтину за плечи.
– Уходи, Эльдар! Не н-надо! – пытаясь высвободиться, плакала Алевтина. – Увидит кто – только хуже будет.
– Что у вас случилось?
Она подняла заплаканные глаза, шмыгнула носом.
– Меня муж избил.
– За что?
– Павлович рассказал о тебе. Выпивали они в субботу, там и рассказал. Муж возвратился злой. – Алевтина захлопала глазами, сдерживая слёзы. – Пришёл, сразу ко мне кинулся, давай трясти и выпытывать, что у меня с тобой было. А у нас ведь ничего не-бы-ло…
Уткнулась мне в плечо, задрожала, опять заплакала:
– Когда меня Павлович подвозил – спьяну начал приставать. Мол, знает, что у нас с тобою «отношения», но готов молчать, если… Ну, понимаешь. Такое мне сказать! – подняла заплаканные глаза. – Он и раньше приставал, но тогда я давала понять, что «не такая». А теперь, он считает, что «такая»…
– Я его убью!
– Оставь. Уже не надо. Больше никогда, ни с кем, у меня ничего не будет. Я решила, – сказала Алевтина, вытирая платочком глаза. – А побил меня муж заслужено – я ему в душе изменила. И телом была готова. А что этого не произошло – случайность. Или судьба.
– Причём тут…
– Молчи! Не даёт мне судьба прикоснуться к тебе. Не дала. Значит, так надо. Сначала я была рада, что у нас в пятницу НИЧЕГО не вышло. Пришлось бы врать – а я не умею. Но сейчас жалко. Даже не будет что вспомнить кроме объятий тех стыдных.
Алевтина подняла глаза, попыталась улыбнуться. Боль сквозила в том подобии улыбки.
– Зато жалеть не будете, – сказал я, удерживая слёзы. В горле разрастался колючий комок, пробирался щупальцами в нос, покалывал.
– А я б не жалела! Чтобы не случилось – не жалела. С тобой ЭТО можно. Раньше было можно.
Она потерлась щекой о моё плечо, вытерла мокрый след.
Я теснее прижал Алевтину, погладил коленку, потеребил подол. Демон утробно заурчал, оживил субботние желания, рассыпал живые картинки поверженного Карфагена. Такую – побитую, обиженную – я ХОТЕЛ её больше, чем в субботу, чем всегда!
Послать бы всех к чертям, закрыть входную дверь на замок, затянуть Алевтину-Альку в подсобку. Даже если не захочет. Сама же говорила, что не мужчина я – размазня. Вот и стану на последок мужчиной.
Уже не колеблясь, решительно сунул ладонь под платье, ущипнул бедро.
Женщина вздрогнула, недовольно посмотрела на меня.
– Ну что ты делаешь! – убрала мою руку. – Я ж не каменная. И так начудили. Всё закончилось и больше не вернётся. Не хочу, чтобы возвращалось… Уходи! Уходи от нашей семьи. От меня, от Ани. Нас судьба во времени развела. Значит, так нужно.
Я молчал. Тоже не хотел повторения пройденного. Даже боялся. У нас нет будущего, так зачем мучить её и себя.
Мы сидели до вечера, говорили. Алевтина успокоилась, слёзы высохли. Расставались как старые друзья перед долгой разлукой, на прощанье обнялись. Когда уже повернулся и пошёл к выходу, услышал за спиной:
– Спасибо тебе за эти два месяца.
Обернулся. Она стояла возле бюро: маленькая, сутулая, некрасивая, так мною и не познанная. Почувствовал, что сейчас опять расплачется. Нужно уходить – сам разревусь.
– Вам спасибо. Вы моя Первая настоящая Любовь. Ею навсегда останетесь.
– Иди! – еле слышно прошептала Алевтина, уже сквозь слёзы. – Прощай!
Не дожидаясь пока выйду, кинулась в подсобку. Хлопнула дверь.
Сердце рванулось за ней, но удержался. Мне было нестерпимо стыдно за пятничное желание разодрать её некрасивые груди, за субботние видения поверженного Карфагена и сегодняшний свербёж овладеть плачущей, несчастной женщиной. Но ещё страшнее мучили брехливые слова о настоящей первой любви, которая была лишь первым моим желанием.







