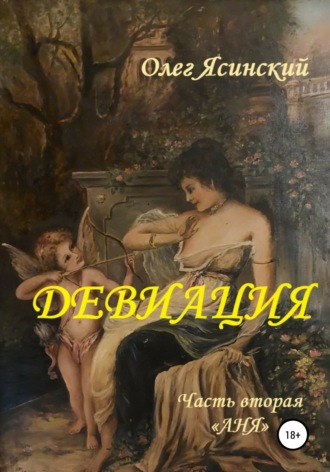
Олег Валентинович Ясинский
Девиация. Часть вторая «Аня»
Однако возвращается самым неожиданным образом.
21 октября 1989, Городок
– … если поместить зубчик чеснока за щёку и не разжевывать, то можно выздороветь за час, – лепетала Аня, не обращая внимания на моё отсутствие, – а густой отвар плодов сушеной черники хорошо использовать при ангине для полоскания горла.
– Она меня помнит?
– Что? – не поняла Аня.
– Алевтина Фёдоровна меня помнит?
– Конечно! Говорила, что вы были самым лучшим её читателем. Вас даже грамотой общества книголюбов наградили.
– Наградили… Как она?
– Мама?
– Да.
– Никак. Вернее – всё так же: работает в библиотеке, нас воспитывает.
– Вас двое – ты и Сашка?
– Уже трое: два года как Галя родилась.
– И она ничего не говорила, когда узнала о вчерашнем вечере?
– Ничего плохого. Лишь улыбалась и головой качала, – утешала девочка. – Не переживайте, она на вас нисколечки не обиделась. Только расспрашивала, какой вы стали. И отпустила свитер занести. Так что вы не бойтесь: если мы подружимся – мама ругать не станет.
– Это она сказала?
– Ми ещё об этом не говорили… Я же не знала, согласитесь ли вы. Но чувствую – запрещать не станет. Вы согласны?
Ничего не ответил – что я могу ответить? Страшный грех обидеть эту женщину, обидеть её дочку. Гораздо страшнее, чем нарушить лицемерные законы, придуманные людьми.
– Вы не хотите? – обиженно прошептала Аня.
Я обнял девочку за плечи, притянул. Чувствовал, как от меня несёт потом. Уже хотел отстраниться, но не шелохнулся – сейчас это не важно.
– Мы будем дружить, – прошептал в макушку, – только это наш секрет. Большой секрет для маленькой компании…
– … огромный такой секрет, – мурлыкнула Аня.
– Да. Но ты должна меня слушать. Делать, как скажу. И никаких возражений! Поняла?
Девочка молча кивнула, потёрлась щекой о мою грудь.
– Встречаться будем в школе, при всех, чтобы никто не узнал. Поняла?
Опять кивнула, но едва-едва. Видно, не так представляла нашу дружбу.
– Это значит, что самой приходить ко мне не нужно. Поняла?
Едва ощутил, как дёрнулась щёчка – точно не понравилось.
– Умница! – сказал я, наклонился, поцеловал в косичку. – Тебе нужно идти домой, а то стемнеет. Маме привет передай.
– Рано ещё.
– Кто обещал, что спорить не будет?
– Я.
– Ну вот, исполняй, – я дотронулся губами пахнущего фиалками виска, легонько отстранил девочку.
Аня недовольно поднялась, расправила юбку, выжидающе посмотрела на меня, но возражать не стала.
– Пошли.
Взял за руку, повёл в прихожую. Помог обуться, одеть курточку. Отщёлкнул замок.
Аня, когда уже взялась открывать дверь, обернулась. Посмотрела на меня так тоскливо и обожающе, что не видержал, наклонился, поцеловал в прикрытый шапочкой лобик.
Аня охватила меня за шею, повисла, пригнула обалдевшую голову и впилась влажными губками в мои сухие и шершавые.
За спиной скрипнула дверь…
Резко выпрямился, отстраняя девочку!
Обернулся…
На пороге своей комнаты стояла мама и удивлённо смотрела на нас.
– Услышала, что Аня уходит, вышла попрощаться, – сказала мама. – Ты дочка Алевтины Фёдоровны Раденко?
– Да, – испуганно шепнула Аня.
– Похожа.
Тут уже я глянул на мать: откуда, мол, знает?
– Мы раньше часто на совещаниях в отделе культуры встречались, – пояснила мама, с насмешливым пониманием разглядывая неудачливых любовников. – Такая приятная женщина, всегда Эльдара хвалила. Она в городской библиотеке заведующей?
Аня кивнула.
– Ну вот, а я в Доме культуры библиотекарем. Земля круглая. Передавай ей привет.
Аня опять кивнула, подняла на меня испуганные очи.
– Ладно, кавалер, отпускай девушку домой, скоро стемнеет, – сказала мама, повернулась и пошла в комнату.
Аня приоткрыла дверь, выскользнула бочком, засеменила вниз по лестнице.
Нужно было объясниться с мамкой, а то доконает молчаливым укором. Зашёл к ней в комнату.
– Мам, ты не думай… – начал с порога. – У нас ничего не было. И быть не могло!
– А что тут думать, – сказала мама, – дело молодое. Только опозорят тебя на весь Городок да посадят за развращение. А так – ничего особенного. Это твоя девушка?
– Не девушка, ученица…
– Она тебе нравиться?
Кивнул обречённо, опустил голову. Как мне может нравиться восьмиклассница! Вернее, нравиться – но не матери же об этом говорить.
– Мала она для тебя, – сказала мама, нахмурилась. – Нравиться, значит жди. И, не дай Бог, испортишь её до совершеннолетия!
– Ты что!
– Знаю я вас, кобелей! Ладно, иди больной, ложись. Это с нею ты вчера вымок?
Опять кивнул.
– Вот видишь, а рассказываешь тут.
– Я провёл после дискотеки… Не отпускать же саму. Она сапожек в грязи потеряла, пришлось свой свитер отдать, а потом домой занести.
– Кавалер! – покачала головой мама. – А теперь это дитя втрескалось, как сейчас говорят, – я же чувствую. Я б тоже в её возрасте влюбилась, если бы меня такой красавец на руках носил. Всё, иди красавец, ложись. Готовься, сейчас принесу горчичники – будем припекать твоё грешное тело.
Глава третья
22 – 23 октября 1989, Городок
В субботу вечером хворь, казалось, отступила. Нечаянный Анин поцелуй в дверях разукрасил болезненный мир щедрыми мазками светло-голубого и темно-синего – надеждой и грустью.
После маминых горчичников, подкреплённых травяным отваром, замотался одеялом с головой, переместился в Леанду.
Закрылся в тронном зале, разглядывал витражами новых ощущений, надеялся на продолжение. Пьеро замирал в сладкой истоме, а Демон-искуситель был загнан в мохнатую нору за ненадобностью – любовь моя не допускала его похабных вывертов. Пусть ТАКАЯ любовь не предусмотрена медицинской наукой, но она, непредусмотренная, существует, даже если НЕЛЬЗЯ.
Я грустил, что Аня ушла, и жалел, что запретил ей меня навещать.
«Твой поступок верный…» – утешал Гном.
Но я жалел.
Я слабый влюблённый человек и не могу жить по правилам, даже очень важным, прописанным в энциклопедиях и кодексах. Я больной человек, меня нужно жалеть и лечить, а лучшей жалостью может стать Анин неожиданный визит, а лучшим снадобьем – её узкая ледяная ладошка на сопрелом лбу…
Затем в царстве Морфея пришли видения. Явился Анин образ: различался каждый волосок из рассатанной косички, просвеченный серыми лучами надвечернего окна; царапинка на мизинце, у ногтика; едва заметная штопка голубых колготок на правой коленке.
Я впитывал, любовался… Вдруг на ковре, подобно стене Валтасара, проявилась огненная рука, начала выводить страшные строки из злополучной энциклопедии, особо выписывая заглавными буквами, что моя любовь – не любовь вовсе, а противная ПЕРВЕРСИЯ.
Я распластался по скомканной простыне, испуганно замер – теперь доведётся отказаться от Ани!.. Морок разогнала Хранительница: взвилась, ощерила двузубую пасть, зашипела на огненную конечность – та, не дописав, втянулась дождевым червём, обдала на прощанье гарью.
В келью возвратилась Аня, которая оказалась вовсе не Аней, а Алевтиной Фёдоровной из детства. Склонилась надомною, юркнула под одеяло, погладила мягкой ладошкой внизу живота (как мечтал когда-то!), пощекотала Демона. Тот довольно заурчал, потянулся навстречу.
Мне стало стыдно: не знал кто это – Аня или Алевтина? Нельзя допустить, чтобы Аня ТАК… Страшная рука из ковра вынырнет, утащит, тыкнет в жёлтые медицинские страницы. Нельзя Ане! И Алевтине нельзя! Но под одеялом темно, а в темноте многое позволено. Значит – можно. Пусть гладит.
Проснулся липкий, с подушкой между ног, замотанный влажной, пахнущей травяным отваром простынёй. Скомканное одеяло валялось на полу. Проявились ночные видения – сладко замлело в животе. Подобрал одеяло, замотался, чтобы заснуть, разгадать, кто посещал меня ночью – Аня или Алевтина?
Уже почти воссоздал вчерашние образы, наполнил теплотой и запахом, даже ощутил шевеление нежных пальчиков в шерсти на груди, которые собрались двинуться ниже, но скрипнули двери, раздались приглушенные шаги.
Откинул одеяло, развернулся недовольно.
В комнате стояли мама и Юрка. Зыркнул на часы – время к полудню.
Мама поставила графин свежего компота на тумбочку, подправила постель, тихонько вышла. Юрка остался.
Поведать пришёл, – догадался я. Лучше бы после обеда или вечером. Такой сон пропадёт! Со временем ночные образы потускнеют, рассеются, и останется лишь пресное послевкусие.
– Проходи, – изобразил слабую улыбку.
– Заболел? – спросил Юрка. – Мать говорила, что ты в грязи вывалялся.
– Промок.
– А мне рассказывали: ученицу домой проводил, – уставился на меня Юрка. Плюхнулся на стул, положил на тумбочку пакет с яблоками.
– Кто рассказывал?
– Сорока на хосте, как всегда. Да ты не тушуйся, – понимающе подмигнул Юрка. – Они сами хотят. Только нужно осторожно… Расскажи.
– Что?
– Как у вас БЫЛО?
– Ничего у нас не было! Провожатых не оказалось. После дискотеки домой завёл. Дождь пустился. Она упала в лужу.
– А дальше?
– Занёс домой.
– Так завёл или занёс?
– Отстань. У меня с нею ничего не было. Она – ученица!
– Ну, насколько тебя знаю – верю. А вот у меня была одна ученица…
Юрка принялся рассказывать придуманную (или реальную – с него станет) историю с озабоченной школьницей. Ему бы эротические романы писать! И так расцвечивал, гад, с такими подробностями, что моё бедное естество напряглось, раздразненный ночными видениями Демон засопел плотоядно, зашевелился, желая и себе таких приключений.
– Ты деньги отдал? – перебил я Юрку, спасаясь от наваждения.
– Чего? – не понял тот.
– Деньги отдал за сигареты? Я свою долю вернул. Не забыл?
– Успокойся. Тут мне такое дельце подвернулось… – Юрка, переключился на более интересную тему. Начал подробно рассказывать об очередном фантастическом проекте, который обещал принести великие барыши предприимчивому дуремару.
Я молча слушал, довольный, что удалось прервать Юркины фантазии, потакавшие обратить полуночные видения в реальность. Никогда так не сделаю.
Никогда! – повторил я про себя. Гном недоверчиво нахмурился, а раззадоренный Демон лишь осклабился хитрюще. Всё равно не допущу! – пусть не верят и ухмыляются.
Юрка тараторил, размахивал руками, даже рисовал схемы на подвернувшемся листе. Я не слушал. Думал про Аню, наш вчерашний разговор, про запрет приходить ко мне. Лучше бы его она нарушила. Я взрослый, мне нужно так говорить, потому что ТАК НУЖНО. Только кому?! Мне, ей, маме, Юрке, соседке – тете Лиде? Может «Медицинской энциклопедии» или равнодушному миру?
И тут мне представилось, что Аня позвонит. Или придёт. «Позвонит» – подсказала Хранительница, уютной теплотой окутала сердце. Позвонит! Вот только Юрка…
Юрка уходить не собирался. Заметив, что слушаю его невнимательно, предложил в картишки перекинуть или в шашки – до вечера, мол, свободен, а так, со мной время проведёт, поддержит в трудную минуту.
Он должен уйти!
Но как сказать? Обидеться.
Гном недовольно зашевелился, осуждая надуманную подлость. Кто для меня Аня? – смазливая ученица, которая понравилась (в которую втрескался! – себе-то я могу признаться). А Юрка – друг детства. Пришёл, яблок принёс, разговорами забавляет, беспокоиться. И я хочу (ещё как хочу!) променять друга на бабу. Даже ни на бабу – на девчонку, с которой не то, что загулять – дружить нельзя. Вот бы Юрка поиздевался, узнав, о чём думаю.
Но Аня будет звонить (Змея беспричинно не проявиться) и Юрка должен уйти, как бы гаденько это не выглядело. Потом отстрадаю, а сейчас пусть оставит меня в покое.
Я сглотнул, закашлялся, страдальчески подкатил глаза. Благо притворяться особо не нужно – горло вправду обложило и в груди хрипит.
– Дай воды, – попросил я, протянул руку к тумбочке. – И таблетки, вон те, в зеленой упаковке.
Юрка подскочил, сунул мне чашку, подал таблетки.
Переживает.
Я заглотнул белый кругляш, запил, отдал чашку обратно. Откинулся на подушку, хрипло задышал, изображая обречённую усталость.
Юрка присел на стул, смотрел на меня.
Он что, уходить не собирается?!
– Ты, наверное, иди, – прошептал я, закрыл глаза. – Мне подремать нужно, что-то прихватило.
Юрка молча поднялся, протянул холодную руку для прощания. Я ответил вялым пожатием.
– Не раскисай, – сказал Юрка, остановился в дверях. – Если чем помочь – звони. Таблеток принести или ещё чего. У меня с медичками блаты – ты меня знаешь.
– Спасибо. Пока есть, – шепнул я и отвернулся к стене.
Сволочь я! Не мужик – чмонюга. Так поступить с лучшим другом! Однако… Аня должна позвонить! Змея обещала.
Окликнул маму. Та зашла в комнату.
– Если кто позвонит – подашь трубку.
Мама посмотрела на меня, улыбнулась.
– Ученики должны звонить. Мы готовили выступление…
– Аня?
– Что?
– Аня позвонит?
– Нет! – выдохнул я. – Ученики. А может и она.
– Потому Юру спровадил?
– Он сам ушёл.
– Не лги, – спокойно сказала мама. – Ладно, если Аня позвонит – подам трубку. Для остальных – ты болен. Лечись.
Мне было страшно неловко, что хотел обмануть маму. Сколько раз убеждался: всё она знает.
С детства слышал, как маму за глаза называли ведьмой. Не все, лишь злые люди. Да и сам в такое не мог поверить. Ведьмы – это вроде Бабы Яги или гоголевской Панночки, которая летала в гробу в страшном фильме. А моя мама ласковая, добрая – со всеми приветлива, никому в помощи не откажет. Только подруг у неё никогда не было. Дед говорил, что Нина в него пошла –отшельника, в отличие от сына Бориса.
Как-то спросил маму о глупых пересудах. Та ответила: люди о многом говорят, и не всё в тех разговорах правда, но дыма без огня не бывает. Вот и пойми.
Ещё замечал: к маме порой приезжают незнакомые люди. Они уходят в её комнату и подолгу беседуют за закрытыми дверями. Всезнающий Юрка объяснил, что мама их лечит. Выходит она не ведьма, – решил я для себя, – а волшебница.
Лишь раз видел маму очень рассерженной. Вернее, не видел – чувствовал своей маленькой Змейкой, как вокруг неё кружатся невидимые упругие волны, холодом обжигают.
Мне тогда лет десять было. Играл с ребятами во дворе в ножички. К нам подошла тетя, которую называли цыганкой. Она в соседнем доме жила, без семьи, без детей. Тетя постояла возле нас, посмотрела за игрой, а затем подошла, страшно зашептала и положила костистую руку мне на голову.
Будто током ударило! Голова закружилась. Ощутил, как Змейка моя встрепенулась, безвольно замерла, собираясь выскользнуть в наложенную лапищу. Я запротивился, отскочил, провалился в липкий сумрак.
Не заметил, как тетка ушла. Никто не заметил.
Ребята меня на скамейку усадили. Потом, когда идти смог, домой привели, маме рассказали. Вот тогда почувствовал я мамины волны и услышал слова, которые она сказала тихо-тихо, но как отрубила. Сказала, что меня ОБИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Две недели болел, кушать не мог – съеденное наружу вылетало. Мама лечила меня травяными отварами, яйцами куриными по голове катала. А через месяц цыганка померла. Её в закрытом гробу хоронили.
Юрка, который всё всегда знал, по секрету рассказывал: у той тётки волосы выпали, а тело страшными синими волдырями пошло, как яблоки величиной. А ещё Юрка сказал, что это моя мама ей отомстила.
Я не поверил, разозлился на друга. Но для себя-то знал – Юрка прав. Меня обижать нельзя.
Позвонит или не позвонит? Весь мир обратился нетерпеливо-сладким ожиданием. О Юрке уже не думал, а мама поймёт. Она многое понимает. Давно бы сказала, если б оступился.
Убаюканная совесть притихла. Взамен нахлынули образы, навеянные Юркиными рассказами, разбудили Демона, добавили нетерпеливого зуда, и я, осмелелый, уже не был уверен, что никогда не поступлю, как брехал Юрка (или не брехал?). Я ЭТОГО уже хотел.
В прихожей задребезжал телефон. Знал, что звонит Аня.
Мама молча подала трубку. Вышла, плотно прикрыла двери. У меня понимающая мама.
Воркование невидимой собеседницы окутало сердце мучительным счастьем, и я, забывший о болезни и недавнем предательстве, обратился в слух.
Аня рассказывала о народных рецептах лечения простуды и о том, как скучает, хочет прийти, а я, испуганный Пьеро, отговаривал, ссылался на недомогание и гнусных микробов, которые сослепу летают по комнате и залазят в потайные щёлочки; лепетал о занятости подготовкой Дня Комсомола, о темноте октябрьских вечерних улиц, не предназначенных для прогулок маленькой девочки.
Аня мило сердилась и убеждала, что она «не маленькая». Затем вдохновенно, чуть картавя, читала свои несовершенные стихи, написанные вчера вечером о том, что Принц обязательно должен украсть Принцессу и увезти далеко-далеко, где они будут жить долго и счастливо, а ещё о Девочке, которая влюбилась в далекую холодную Звезду, но не может к ней дотянуться.
Я слушал Анин голос и млел. Своевольная рука, ведомая подлым Демоном, пустилась по мохнатой дорожке вниз, уже бесстыдно ТАМ поглаживала, находя особую прелесть в девичьих придыханиях и переливах непослушного «р».
Я выдержал. Навестить не позволил. Через час равнодушный автомат телефонной станции разорвал тантрическую связь. Аня больше не звонила, а я, доведённый до сладкого изнеможения, набирать её номер тоже не стал, боясь, что если услышу очередную мольбу прилететь и полечить, то не откажу.
Опасаясь соблазниться, позвал маму, отдал ей занемевший аппарат, который без Аниного голоса превратился в безучастную пластиковую коробку. Попросил выключить лампу.
Укутавшись спасительной темнотой, придумывал ответные стихи о Девочке с глазами цвета вечернего неба, пытался их запомнить, чтобы записать на свежую утреннюю голову. Раздразнённый смелыми рифмами, уцепившись за двойное толкование слова «губки», стыдливо вознёс молитву ветхозаветному Онану, вспоминая Юркино словоблудие, проецируя его в свою реальность. Лишь после экзекуции, отрезвев от ноющего желания, уже вечером, продолжил сочинять куплеты о молодых строителях коммунизма, призывая их вперёд, к новым успехам в труде и учёбе.
За выходные не поправился. Видно, целебная сила маминых отваров не пошла по назначению, а истратилась на воссоздание распутных картинок в магическом театре моего воображения.
В понедельник утром позвонил директору школы, непритворно закашлялся, рассказал о болезни. Тот разрешил долечиться, напомнив, что меньше недели осталось до Дня Комсомола, а там и годовщина Великой Октябрьской революции – торжественные мероприятия мне готовить.
Я пообещал успеть. Загнал Демона и раскисшего Пьеро в дальние пещеры. Вызвал ответственного Гнома, обложился райкомовскими методичками, принялся создавать вдохновенные речи об исторической роли верного соратника Партии. Но между строк всё чаще проглядывала мохнатая мордочка, воскрешала ночные образы, которые грубо попирали седьмую заповедь «Морального кодекса строителя Коммунизма», особенно насчёт нравственной чистоты.
Под вечер накатило пуще прежнего, писать уже не мог. Отложил незаконченный сценарий, рухнул на диван, старался заснуть, чтобы быстрее прошла ночь. Решил: даже если не выздоровею – всё равно пойду в школу. Мне НУЖНО её видеть!
24 октября 1989. Городок
Лишь забрезжило в окнах – сердечный Пьеро трепыхнулся, штрыкнул сладкой иголочкой: просыпайся, мол, пора!
Вспомнил вчерашние желания – сон рукой сняло. Подхватился всесильный и счастливый: хворь бесследно прошла, а будущая встреча раскрашивала октябрьское утро дивными красками, в которых недавняя робость поблекла, обратилась решимостью. Хотелось юркнуть в приоткрытую форточку, взлететь в дождливое небо и петь миру о своей радости.
Поспешно собрался, около семи вышел в серую муть, чем удивил маму, а затем и школьного сторожа, который не ожидал вечно опаздывавшего Эльдара Валентиновича раньше директора.
Но стоило зайти в школу, пройтись коридором к пионерской комнате, как решимость моя вмиг растаяла. Я уже не мог представить, как и где встречусь с Аней, что ей скажу. Заглянуть в класс перед уроками? – навязчиво. Ждать в пионерской? – глупо (вдруг не придёт!).
Однако уцепился за последнее боязливое намерение, которое не предполагало активных действий.
Первая десятиминутная переменка минула впустую. Аня пришла на второй. Не сама, помня наставления, а с одноклассницами, братом Сашкой и пионерским активом. Появление многочисленной ватажки обрадовало Гнома, который трусил от предстоящего общения наедине. Теперь можно вести себя как обычно, как полагается вожатому, занятому подготовкой скорого выступления.
Стараясь не смотреть на Аню, принялся обсуждать будущий концерт, распределять роли: отрезал от исписанных листов сценария куплеты, помечал номерками. Лучшие достались Ане и Сашке. Теперь я понимал режиссеров, которые отдают главные роли любовницам.
Аня поводилась как обычно: спорила и хихикала с подружками, задирала чопорных старшеклассников. Да только я чувствовал в той обычности такое необычное обожание, такую сладкую, ведомую лишь нам тайну, что бедный Пьеро совсем свихнулся и разбудил Демона.
Я боялся поднять глаза, даже повернуться в Анину сторону, опасаясь встретиться с нею взглядом (она поймёт! все поймут!).
Я затеял перепалку с капризной отличницей, которой не досталась роль ведущей, а сам подленько ждал звонка на урок.
Дождался! С облегчением выпроводил гостей, напомнив, что первейшая их обязанность: учиться, учиться, учиться. Избитая мантра не помогла – не удержался, поднял глаза на Аню, обжёгся на прощанье бирюзовым сиянием. Девочка улыбнулась, в стайке подружек с визгом выскользнула из пионерской.
На этот раз обошлось.
Не обошлось. Через пять минут дверь приоткрылась, появилось Анино личико, потом она сама – запыханная, довольная. Выглянула в коридор, протиснулась бочком, заскочила в пионерскую, прикрыла двумя руками тяжёлые двери.
Затем неожиданно, решительно, солнечным зайчиком кинулась ко мне, очумелому от счастья и страха, вросшему в стол. Обняла за шею, тронула щёку мягкими губами.
– А урок? – выдохнул я, невольно пытаясь отстранить девочку.
Если кто зайдёт!
– Вы за мной не скучали? – обижено спросила Аня, разрывая объятие.
Отошла, присела на скамеечку у стенки, разочарованно сложила руки на форменном переднике.
– Почему на урок не пошла? – спросил я, пытаясь угомонить бухающее сердце.
Девочка обиженно насупилась, опустила головку.
– Не сердись. Скучал. Но нельзя нам в школе встречаться. А если заглянет кто и увидит, что мы… обнимаемся – что тогда?
– Пусть видят! – решительно сказала Аня. – Я вас люблю! И мы поженимся… Только вы меня не любите! Я знаю.
Пьеро колыхнулся, затих. Гнома заклинило. Лишь Демон довольно заурчал, предвкушая, как ночные видения, нереальные, придуманные, могут обратиться явью, если только…
Дорогая моя, глупая девочка! Зачем так?! Я же умру теперь.
Неживым выбрался из-за стола. Подошёл к Ане, присел напротив. Взял её теплые ладошки. Поднял виноватые очи к обиженному личику, надутым губкам, грустным влажным глазам, которые не смотрели на меня.
А если кто зайдёт? – шепнул осторожный Гном.
Оглянулся на дверь – прикрыта. Нужно запереть на замок. Нет! Если кто придёт, станет ожидать под запертой дверью … Пусть лучше заходят. Не могу её выпроводить. Прости, Гном. Прощай разум.
– Я… Ты мне нравишься… – сказал сипло, нарушая мучительную тишину, в которой повис отголосок Таниного «я знаю…». – Но ты ещё маленькая. Сколько тебе?
– Тринадцать было на Покрову. Четырнадцатый уже, – ответила Аня.
– Вот видишь – всего тринадцать…
– Я читала, что раньше женились в тринадцать, даже в двенадцать. Эдгар По и Виржиния, например… Она даже была его родственницей.
– Ты читаешь ТАКИЕ книги?
– Я разные читаю. Не считайте меня дурочкой!
– Я не считаю. Но… то раньше было. Мир стал другим, и люди другими. Сейчас нельзя. Лишь после семнадцати. И учиться тебе надо, школу закончить.
– Я знаю. Ещё три года. А тогда мы поженимся? – уставилась не мигая.
Вот же!
Сердце йокнуло. Остановилось.
Тут не сбрешешь – враз поймёт. Нельзя играть с чувствами тринадцатилетней девочки – у них всё очень серьёзно, на всю жизнь.
– Зачем я тебе? – спросил обречённо, не зная, что ответить.
– Вы моя первая любовь!
– Мы лишь неделю дружим.
– Я давно вас люблю. Ещё с начала учебного года, когда увидела. У меня любовь с первого взгляда. Вы верите в любовь в первого взгляда?
– Не знаю.
– А я верю! И девчонки наши верят. Они тоже в вас влюблены, только боятся сказать.
– В меня?!
– Да! Но мне повезло, что тогда на дискотеку пришла, и меня Сашка оставил, и что дождь пустился, – смущённо откровенничала Аня. – Я вас не отдам! Они мне завидуют.
– Они знают?!
– Не-а! Я ничего не рассказывала. Я же обещала! – Аня подняла правдивые глаза. – Только догадываются. Я такая счастливая, и они чувствуют. Все враз дружить со мной начали, будто знают, что я ваша девушка…
Аня замолкла, опустила головку.
– Вы обиделись?
– За что?
– Наговорила тут… Только это правда. Вы сами учили, что пионеры должны говорить правду.
– Должны… – согласился я.
Верный Гном беспокойно покалывал, предупреждал, что в пионерскую комнату в любую минуту могут зайти, что скоро закончиться урок и залетит гоготливая орава, увидит, разнесёт по секрету всему свету.
Впрочем, сейчас это не важно. Чувствовал, как путаюсь в липкую паутину, и выбраться из неё без потерь станет невозможно. Самым верным (опять же подсказывал Гном) было бы оттолкнуть девочку, не создавать ей проблем, и себе не создавать. Себе – в первую очередь: если о наших обнимках узнают, то её поругают, почитают нотаций, а меня выгонят со школы.
Легко сказать: оттолкнуть! Вот, сидит она, грустная, доверчивая, пахнет девичьим запахом, теплыми ладошками мою руку сжимает, а нужно взять и разрубить – по живому, сокровенному. Так может сделать только владеющий собой настоящий мужчина, а я не настоящий, и не владеющий. Я влюблённый Пьеро.
– Пообещай до вечера пятницы вести себя «как все», – сказал обречённо, удерживаясь, чтобы не расцеловать девочку в преданные глаза.
– А в пятницу?
– Пообещай! Если нарушишь обещание – наша дружба прекратиться и…
– И мы станем чужими?
– Пообещай!
– Честное пионерское! А в пятницу?
– В пятницу вечером будет дискотека. Если получится, то проведу тебя домой.
– Честно-честно?! – обрадовалась Аня, высвободила ладошки, обвила меня за шею.
– Ты же обещала!
– Ой! – спешно забрала руки. – И даже если дождя не будет?
– Даже если не будет дождя, – улыбнулся я. – Если не нарушишь обещания.
– Не нарушу!
– А как ты ушла с урока?
– Антонина Петровна заболела. Директор попросил сидеть тихо и самим готовиться, – пояснила Аня. – Я вышла, как бы в туалет.
– Ладно, беги на урок, а то подумают…
– …что у меня живот болит. Я им так и сказала, – улыбнулась девочка.
– Всё, беги.
Аня потянулась, чмокнула меня в нос. Без оглядки шмыгнула из комнаты, мелькнув на прощанье подолом школьного платьица.
Обещание Аня почти сдержала. Каждый день после уроков мы репетировали торжественную линейку и танцевальные номера ко Дню Комсомола, который выпадал на воскресенье, однако мероприятие запланировали на пятницу.
Аня вела себя – как подобает визгливой восьмикласснице – насмешливо и беззаботно, не обращая особого внимания на требовательного педагога. Лишь порою, во время репетиций, ловил на себе её пристальный взгляд. А ещё на прогонке танцевальных номеров, в перерывах, она норовила присесть где-нибудь на столе или на спинке стула, забраться с ногами, и, вроде случайно, так поддернуть концертную юбочку и развести коленки, что бедные мои очи враз прикипали, будили Демона, который начинал похотливо урчать и желать недозволенного.
Я не замечал соблазнов. Притворялся, что не замечаю. Раздразненный нечаянными видениями и переливами её смеха, я покрикивал на пионеров, которые путали слова, или ещё по какому пустяку, лишь бы унять тёплую волну, заполнявшую сердце.
После репетиций я разлучал нас не только в пространстве, но и во времени: отпускал Аню пораньше, обязательно с попутчиками, чтобы девочка не надумала поджидать меня в укромном месте.
Так мы дожили до пятницы.
Глава четвертая
27 октября 1989. Городок
День Комсомола – праздник ответственный. Не годовщина Октябрьской революции, ясное дело, но готовились основательно. Администрацию школы заранее предупредили о высоком начальстве из райкома, из отдела образования, а ещё совхозные шефы пожалуют.
Это было моё первое мероприятие такого уровня. Директор, старый партиец, посоветовал расстараться, чтобы гости убедились, как в нашей школе комсомольцы перестроились, ускоряются, гласность приветствуют – по заветам самого Михаила Сергеевича. Возможно, от того моя карьера педагогическая зависит, даже жизнь последующая: заметят в райкоме Партии активного пионервожатого, продвинут по комсомольской линии, в номенклатуру включат.
Я не подвёл. Пионеры, вышколенные недельными репетициями, старались на славу. Вначале была торжественная линейка во дворе школы, затем никому не интересные речи гостей о верном соратнике Партии. Мои подопечные изображали внимание, дожидались своего выступления. После окончания официальной части перешли в актовый зал. Тут и началась музыкально-поэтическая композиция, а затем танцевальные номера. Я присел в первом ряду, следил за концертом, порой подсказывал, подправлял, но особого участия не требовалось – давно учено-переучено.
Аня, которой досталась роль ведущей, в форме, в белых бантах и гольфах – словно из обложки пионерского журнала – выразительно читала стихи, объявляла участников. Вдобавок так стреляла на меня глазками, что воодушевление от удачного концерта растворялось в липучем страхе, тревожном страхе-предвкушении, желанном, противном.
Прошлую ночь я так и не уснул. Не о выступлении беспокоился. О дружбе с Аней, или любви – как она напридумывала.
Когда первоначальный дурман прошёл, вернулись былые сомнения: какая у меня может быть дружба с восьмиклассницей? Подскажи, Хранительница! Молчит Змея, желает, чтобы сам этот ребус разгадал. А я не знаю, лишь догадываюсь. И догадки мои опасливы: ПРОСТО дружбы у нас не получиться – Демон вывернет на скользкую дорожку. Не поможет «Медицинская энциклопедия» и рука со стены не напугает. Лучше не начинать.
Аня, будто чувствуя мои сомнения, пуще прежнего красовалась со сцены: и так повернётся, и этак; пионерскую юбочку с боков теребит, звонким голоском декламирует, улыбается, глазками играет.
Но совсем уж невыносимое началось, когда после антракта на переодевание, перешли к танцевальным номерам. Аня по правую сторону сцены пристроилась, напротив меня, хоть должна была танцевать по центру. И такие непредвиденные кружилки устроила, такие акробатические выверты под «Чунга-чанга», что грешные мои очи не могли оторваться от её ног и всего, что открывалось под лёгонькой танцевальной юбкой.
Концерт закончился. Директор школы поблагодарил учеников, пригласил на вечернюю дискотеку. Второй секретарь райкома тоже порадовался подрастающему поклонению, и особо отметил организатора – то есть меня. Уже в учительской, на скромном банкете, лично рекомендовал пионерского вожатого делегатом на отчетно-избирательную комсомольскую конференцию в середине ноября: такие, мол, сознательные и активные нужны Партии. Директор довольно подмигнул – ему тоже зачтется.







