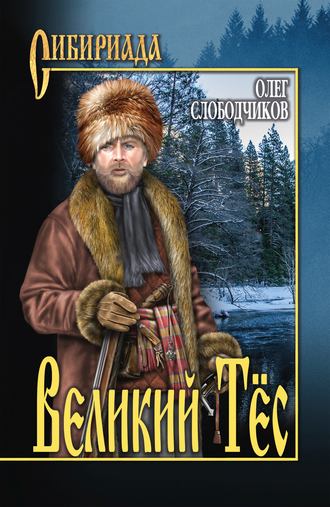
Олег Слободчиков
Великий Тёс
– Михей говорит, будто енисейский старец Тимофей двадцать пять лет намаливал и пророчил город по государеву указу, – прислушиваясь к ясной ночи, прошептал Угрюм. – Пусть не город – только острог поставили. Все равно сбылось!
– Он нас благословил идти за Енисей! – вздохнул Герасим и размашисто перекрестился.
В тот же день, вскоре после полудня, Угрюм дошел до первого стана. По пути он набил тетеревов из лука, вывалил их из мешка у входа, развел огонь в выстывшем очаге. К ночи прогрел балаган, закидал его снегом с трех сторон, стал печь птицу и наконец-то восчувствовал праздник.
За две недели до Евдокии-свистуньи передовщик приметил у соболя первые признаки линьки и велел забить, раскидать все настороженные клепцы. Добычу зимы промышленные делили на двоих. Пантелей разложил на две кучи всех соболей, белок и лис, предложил Угрюму взять любую. Тот метнул на передовщика плутоватый взгляд и выбрал ту, что показалась ему ценней.
Погорельцы на острове тоже не теряли время даром. Когда двое промышленных вернулись к ним, возле балагана лежали грудой тесаные бревна на новую избу. Зимовейщики с радостью встретили Угрюма и Пантелея, угостили их печеной рыбой, отваром брусничного листа. Больше ничего не было.
В пять топоров за неделю, без спешки, на острове была срублена новая добротная изба. Покрыли ее драньем из лиственницы, сложили очаг. Монахи хорошо протопили жилье, чтобы не пахло сыростью, и освятили его. Пантелей принялся мастерить седло, Угрюм, кое-чему уже научившись, делал другое, на продажу.
И вот под полуденным солнцем по льду притока потекли ручьи. Возле берегов появились пропарины, в которых так тесно толклась рыба, что ее можно было черпать ведром. Оттаяли, зажелтели прошлогодней травой берега, сладко запахло березовым соком.
К лету каждый житель зимовья готовился по-своему. Угрюм за протокой, напротив острова, поставил балаган, рядом с ним сделал навес из бересты, очистил крепкий камень вместо наковальни, загодя жег древесный уголь, шил мехи для кузни. Работы было много. Время поторапливало. Каждый день он с волнением посматривал на восход, в сторону далеких холмов, не покажутся ли там стада братского скота. Как-то в полдень заметил трех всадников с длинными мунгальскими пиками. На низкорослых резвых лошадках они переправились через реку по сырому, рыхлому льду. За каждым всадником в поводу шли по две лошади. На одной из них Угрюм разглядел переброшенное поперек хребта тело человека. Руки и ноги его были связаны.
Одеты были всадники по-братски, в халаты. Правили они своих коней к острову, на курившийся дымок. Зазывая их к себе, Угрюм стал стучать обушком топора по наковальне-камню. Мунгалы заметили его и повернули к нему. Угрюм уже начал раздувать горн, сложенный из камня, но всадники, подъехав к его балагану, не подумали спешиться. С беспристрастными лицами они сбросили на землю связанного мужика и зарысили в сторону холмов.
Слегка удивленный, Угрюм подошел к телу без признаков жизни, перевернул его на спину и едва узнал Синеуля. Лицо новокреста было синим, в черных, кровавых коростах. В заплывших щелках глазниц блеснули живые зрачки. Синеуль тихо простонал.
Угрюм закричал на остров, вызывая зимовейщиков. На берег протоки вышел старый Михей. Затем по шаткому, ненадежному льду переправились монахи. Они осмотрели Синеуля, положили его на нарты и отвезли на остров. К вечеру новокреста привели в чувство. Другим утром он уже говорил, сдержанно ворочая языком и боясь разбередить разбитые губы.
Монахи стали выспрашивать, кто бил и за что. Тунгус болезненно вздыхал, водил по сторонам черными зрачками в набухших синих веках.
– Проповедовал Слово Божье! За то и бит!
Из расспросов выходило, что побили его не мунгалы, а чилкагирцы. Мунгалы, приезжавшие к ним за соболями, только привезли новокреста к острову.
– Видать, мучил свояков проповедями? – похохатывал Пантелей.
– Дикие они! – шипел Синеуль и бросал на передовщика обидчивые взгляды. – Ничего не понимают.
На Зосиму и Савватия пчельников, в середине апреля, в долине Иркута показался братский скот. Пантелей вместе с монахами переправился на берег и ушел к кочевникам. К вечеру он подъехал к кузнице на коне, а в поводу привел за собой еще две старые и смирные лошади.
Угрюм знал, что весной скотину дешево не продают. Расспрашивать про торг он не стал. Понимал, что из добытого зимой у Пантелея осталось не больше десятка хвостов. Жизнь так и не научила стареющего казака житейской бережливости, а Синеуль опять прилаживался к нему в захребетники.
Проживая особняком в балагане, Угрюм закончил делать седло. Он был доволен своей работой и выставил его на виду, под навесом. Наконец-то к нему потянулись кочевники со всякими просьбами, повезли молоко, творог, масло и все поглядывали на выставленное седло, приценивались.
Угрюм азартно ковал, чинил седла и посуду, затылком чувствовал, что и на острове жизнь кипит. Но сходить к зимовейщикам ему было некогда. «Весну пролежишь – зимой с сумой побежишь!» – приговаривал себе под нос, работая с утра до вечера.
Купленные Пантелеем кони три дня пропаслись спутанными возле кузницы. На четвертый ранним утром при синем небе и розовеющем востоке на берег переправились все островитяне. Угрюм услышал шум их голосов, выглянул из балагана с одеялом на плечах. Его бывшие связчики седлали и грузили коней, прощались и кланялись друг другу.
К немалому удивлению Угрюма, одного из коней взял под уздцы Ермоген, двух других Пантелей с Синеулем. Они подвели их к Ангаре, еще покрытой черным ноздреватым льдом. Ощупав его лыпой, Пантелей осторожно потянул коня к другому берегу. Лошадка, скользя копытами, опасливо пошла за ним.
Трое стали переправляться, что было небезопасно: со дня на день, с часу на час лед мог сдвинуться. Герасим с Михеем стояли на берегу и рьяно молились, касаясь пальцами земли в поясных поклонах. Глядя на них, Угрюм обидчиво шмыгнул носом: люди, с которыми промышлял и жил, ушли не прощаясь, правда, и он не вышел к ним из балагана, боялся, что попросят седло для третьей лошадки. Не попросили. Синеуль увел неоседланного коня.
Всадники благополучно переправились. Только возле яра, у самого берега, где течение подмыло лед, конь Пантелея провалился по брюхо. Но он вскинул голову, легко выбрался на сушу и так затряс кожей, что на хребте ходуном заходило седло вместе с притороченными к нему пищалью, саблей, шубным кафтаном и одеялом.
Монах и тунгус обошли промоину стороной, вывели лошадей на яр. Обернувшись, замахали руками Герасиму с Михеем.
– В добрый путь! – махнул им и Угрюм. Сбросил с плеч одеяло, вылез из балагана, стал раздувать горн.
К полудню к его стану подъехал братский пастух с черным лоснящимся лицом. Покачивая головой и горестно пыхтя, показал стершиеся удила. Через слово на третье Угрюм договорился с ним и потребовал за работу масла.
Прошла неделя. На остров он не переправлялся, рыбу на еду не ловил, на берег выходил, только чтобы зачерпнуть воды. Мясо в его балагане не выводилось, он заработал с полпуда проса и варил кашу, густо заправляя ее коровьим маслом. Вскрылась Ангара. Иркут давно очистился ото льда. Герасим время от времени переправлялся через протоку на берестянке, ходил к братам в юрты, заходил и к Угрюму, сидел возле его огонька. Душевного разговора между ними не получалось. Промышленному все казалось, что черный дьякон поглядывает на него с укором и ждет покаяния после того, как спалили его добро, нажитое годами тяжких трудов.
Вечером, глядя в высокое небо, Угрюм вспоминал о своей прежней жизни. Другая зима его не пугала: на прежних станах и ухожьях, если их не пожгут, не порубят тунгусы, на всем готовом он мог промышлять соболя в одиночку, мог сделать легкую лодку и уплыть по течению к Енисейскому острогу. Это была воля! Не та, о которой лопочут чуть живые от изнурения или пьяные промышленные, а настоящая, как он ее понимал.
В очередной раз возвращаясь на остров, дьякон обошел его стан стороной. В это время Угрюм варил жирную баранину. Он усмехнулся вслед монаху, подумав, что того смутил дух свежего мяса.
Прошла еще неделя, затем другая. У озер показались воинские люди. Четверо из них направили своих коней к его кузне. Один был в остроконечном блестящем шишаке, его дорогой камчатый халат перепоясывал серебряный пояс, серебряная пластина висела на груди. Баатар ехал впереди на горячем жеребце. Три вооруженных братских мужика рысили следом.
Когда они остановились возле кузницы, Угрюм узнал в богатом всаднике брата князца, с которым встречался на Елеунэ. В тот год с большой ватагой под началом Пантелея Пенды он возвращался с Нижней Тунгуски.
Баатар был сухощав, лицо у него было продолговатым, а не круглым, как обычно у братов, нос острый, похожий на клюв хищной птицы, глаза большие, черные, с пристальным, немигающим взглядом.
Угрюм безбоязненно вышел из балагана и поклонился прибывшим. Те с любопытством уставились на него. Заносчивый боевой холоп бросил на землю полоску железа. Князец ловко захлестнул плетью заднее копыто своего жеребца, задрал его, показывая, что конь потерял подкову. Затем указал на двух лошадок в поводу.
Всадники спешились, сели на траву. Кони опустили косматые шеи, стали с хрустом щипать весеннюю зелень. Угрюм со знанием дела раздул горн, стал калить железо. Он поглядывал на баатара и все не мог вспомнить, как сказать по-братски «брат». Зато вспомнил имена братьев.
– Куржум-баатар! Бояркан-хубун![41] – и угодливо улыбнулся.
Князец с любопытством окинул кузнеца пристальным, немигающим взглядом. Его молодцы приглушенно загыркали, кивая на Угрюма.
– Пянда! – пролопотал один и провел ладонью по своей дородной груди, будто оглаживал бороду.
Угрюмка радостно закивал. «Был гостем на Зулхэ!» – нескладно сказал по-братски. Как назваться гостем – не знал, назвался, как запомнилось, мангадхаем[42]. Балагатские молодцы захохотали. Куржум улыбнулся, вспомнив встречу с промышленными.
Угрюм указал, чтобы резвого жеребца ввели между вкопанных им в землю четырех столбов и привязали. Работал он на совесть, то и дело смахивая рукавом пот со лба. Срезал наросты с копыт, очистил их, подогнал подковы, надежно расклепал гвозди. Сам остался доволен своей работой и по лицам всадников понял, что угодил им. Остатки железа они не забрали. Вдобавок к нему Куржум бросил на землю серебряную подвеску.
Угрюм взглянул на нее, метнулся в свой балаган, выскочил оттуда с двумя соболями и подарил их Куржуму. Молодцы одобрительно загудели. Баатар принял подарок, потряс мех и спрятал в седельную суму. Угрюм поднял подвеску, подбросил на руке. На ней был выбит простенький узор. Он мог украсить этим серебром седло или уздечку и продать их дорого.
Какие дела привели балаганцев на Иркут, часто ли они бывают здесь, он не знал, но остался доволен встречей и все ждал от нее каких-то перемен. Предчувствие его не обмануло. На другой день к балагану подъехали двое: один из вчерашних косатых боевых холопов князца, другой был незнаком Угрюму. Он приветливо закивал всадникам. Незнакомец сказал по-тунгусски, что у булагат нет своего дархана[43]. Куржум зовет к себе на службу. Пока Угрюм думал и переспрашивал, косатый молодец отвязал от седла и бросил на землю мешок.
Угрюм вытряхнул из него все добро и ахнул. Там был камчатый халат и красные сапоги. Братские мужики захохотали, поворачивая коней, а он сбросил с себя кожаную рубаху, чирки, стал примерять халат и сапоги. Кроме них в мешке была шелковая рубаха. Угрюм сбегал к воде, ополоснулся в студеной протоке, надел новую рубаху и зажмурился от удовольствия, впервые всем телом ощутив легкость и ласковое касание шелка.
На другой день, когда вдали показался знакомый всадник с лошадью в поводу, он был уже собран в путь. Котел, топор, молоток, железо и остатки еды вошли в один мешок. Одеяло, шубный кафтан, крепкие еще бахилы, ичиги – в другой. Шапка была у него суконная, обшитая соболями. Поверх всего набитого в мешки добра батожком торчал обгоревший ствол пищали.
Как-то неловко было уезжать, не попрощавшись с Герасимом и Михеем. И отчего-то стыдно было встречаться с ними, говорить, куда едет. Угрюм решительно тряхнул головой, оседлал коня своим седлом и сел в него. Оглянувшись на дымок, поднимавшийся над островом, вздохнул и подумал: «Все равно узнают от братов, с кем и куда уехал». Клацая железом в мешке, лошадь двинулась в ту сторону, откуда в прошлом году он пришел со стругом и со стертыми в кровь плечами.
Глава 3
– Болота бескрайние, грязи непролазные! – бормотал приказный Маковского острога, с тоской оглядывая окрестности. – Видать, отсюда и приберет Господь за грехи наши!
– А ты откуда хотел? С Тобольского города? – сердито выцарапывая из бороды запутавшуюся щепу, съязвил Иван Похабов. – Или из царского кремля?
Дед Матвейка, не глядя на него, тяжко вздохнул, повел хмельными, выцветшими глазами, невольно выдавая тайные стариковские помыслы, что ему, тобольскому сыну боярскому, прослужившему на Енисее лучшие годы, можно бы предать душу в руки Божьи поближе к столице Сибири.
Сколько помнил Иван Матвейку, тот всегда казался ему старым, но обветшал едва ли не за последний год. У крепкого седобородого служилого вдруг опустились плечи, потускнели глаза, он стал приволакивать ноги, жаловаться на хвори и отлынивать от работ. На этот раз казаки со стрельцами весь день махали топорами, к вечеру от усталости руки висели плетьми, а он, просидев возле печки и тайком попивая винцо, жаловался на кручинную тоску-печаль, грозился помереть.
С тех пор как Иван Похабов и Василий Колесников были присланы на службы в Маковский острог, дед Матвейка бездельничал на своем окладе. Отписки – и те сочинял за него Василий, а писал Иван. Он с Колесниковым держал приказ по острогу, Матвейка же был при них вроде разрядной печати. Отдыхал сын боярский на старости лет: думал о прожитом, собирал ягоду, курил вино, попивал греховно, в одиночку.
– Хоть бы в Енисейском! – продолжал лепетать заплетавшимся языком. – Все над рекой, на самом краю Сибирской Руси. Не среди здешних грязей!.. – Приказный вдруг встрепенулся, почувствовав молчаливое недовольство служилых, заискивающе польстил: – А вы хорошо поработали.
Ко всему старческому занудству он стал скуп. Неохотно, со многими вздохами, достал из-за печки наполовину опорожненный кувшин, налил по чарке Похабову, братьям Сорокиным и стрельцу Колесникову.
– Благодарим за угощение! – повеселев, перекрестились служилые. Степенно выпили, обсосали усы, дожидаясь второй чарки. Не налил, хрен старый. Иван поднялся, подпирая шапкой низкий потолок.
– Приглядывайте тут! – буркнул Сорокиным, которые оставались на ночлег в гостином дворе. – Нас с Васькой жены ждут!
– Раз ждут – надо идти! – плутовато закивал Якунька Сорокин. – Мы покараулим! – бросил томный взгляд на кувшин. Кабаньим пятаком шевелились в его бороде чуткие выдранные палачом ноздри.
Стрелец и казак вышли из избы гостиного двора. Иван оглянулся на казенный амбар, накрытый драньем, на баньку у ручья. В оконце избы засветилась зажженная лучина. Быстро темнело. До острожка, в котором заперлись бабы с детишками, было с полверсты.
– Успели к дождям накрыть амбар, – похвалился Колесников, по-куньи зыркая по сторонам острыми глазами. – Остальное доделаем зимой.
По прибытии на здешние службы им, четверым с братьями Сорокиными, наказали принимать в государев амбар рожь, хранить ее и возить через волок из Маковского в Енисейский острог. Третий год сряду они этим и занимались, да брали десятину с воровских промышленных ватаг, пытавшихся обойти стороной Енисейский острог, да собирали ясак с ближайших кетских родов. Каждый год им присылали в помощь стрельцов или казаков, но те подолгу не держались. А эти притерпелись и будто приросли к здешним болотам.
Волок из верховий Кети в Кемь с каждым годом становился все оживленней. Кроме казенных товаров и служилых через него шли торговые и промышленные люди, шли гулящие в поисках заработков и лучшей доли. Из болот между Обью и Енисеем выползали промышленные ватажки. Летом народу собиралось множество. В остроге становилось тесно, начинались шум, скандалы, драки. Не без умысла здешние служилые выбрали место для гостиного двора подальше от острожка.
– Разбирает старого! – обидчиво шмыгнул носом Василий Колесников, раззадоренный чаркой слабенького ягодного вина. – В печали! – передразнил приказного, подражая его голосу: – Не поставили енисейским воеводой! А нам теперь задарма его оклад служить, пока Бог не приберет? Буду в Енисейском, доложу воеводе, что бездельничает. Был бы грамотный, как ты, написал бы царю: пусть снимет с приказа и тебя в его оклад поставит.
Правильно говорил стрелец. Но Иван жалел старика, с которым не раз служил давешние годовалые службы.
Калитка в остроге была подперта изнутри жердью, к ней была привязана тайная бечева, спрятанная между бревен. Иван впотьмах нашарил ее конец, потянул. Приподнялась жердина. Он толкнул калитку плечом.
Острожек был без башен, в три избы, амбар да баня. Между стен поставлен стоячий тын. Привычная теснота. Семейному казаку или стрельцу давали жилья по указу в две с половиной сажени квадратных, сыну боярскому – на сажень больше.
Иванова изба была угловой. Печь занимала половину жилья. В стенах заткнутые мхом бойницы. И жил он в этой тесноте без порядка. Черный от сажи котел с выстывшей кашей стоял на полу. Рядом с ним валялся шубный кафтан. Немытые после еды ложки были разбросаны по лавкам и на полу.
Возле печи над ушатом с водой горела смолистая лучина, освещая неприбранное жилье. Иван устало опустился на лавку, стал развязывать скользкую бечеву на промокших бахилах.
Едва хлопнула дверь, из-за печки выскочила жена. Нос ее был испачкан сажей, подол мукой. «Пелашка – рвана рубашка». Который год был женат Иван, а все никак не мог привыкнуть к обыденной для жены грязи и к беспорядку. Кори не кори, бей не бей – чище и опрятней Меченка не становилась. Прежде он и знать не знал, думать не думал, что на Руси водятся такие, как она, замарашки.
Огляделся брезгливо.
– Хоть бы убрала! – кивнул на котел.
– Рожь молола! – слезно вскрикнула жена и обиженно поджала губы. – Якунька с рук не слазит. Весь день в хлопотах.
Она знала, что муж не любит беспорядка, иногда старалась все расставить по местам. Но у нее тут же появлялась нужда что-нибудь искать, и снова все горшки и плошки оказывались на полу.
– Колесничиха тоже в хлопотах! – безнадежно проворчал Иван. – Корми давай! Да вытри свой длинный нос.
Перебирая по лавке ручонками, к отцу двинулся малолетний сын. Сделал шаг, другой, пугливо замер. Иван никогда не повышал на него голоса, но доверия и ласки между ними не было. Он все приглядывался к Богдану[44], пытаясь высмотреть кровь Максимки Перфильева, но узнавал в нем брата Угрюмку.
Жену за девичий грех Похабов никогда не корил: знал кого брал. Но молчание и равнодушие мужа к сыну обижало ее больше укоров. Иной раз она рыдала, слезно доказывая, что это его родной сын, а сама досталась мужу честной и невинной. Иван молча выслушивал ее вопли и стенания, не спорил, только кривил губы в усмешке, слыхал от людей: девка на Дмитра хитра – черта обманет.
Вот и теперь, вместо того чтобы кормить мужа, носилась по избе, терла нос подолом, крутилась без всякой надобности. А котел с кашей как стоял на полу, так и стоит. Иван поднял свою ложку. Ополоснул в ушате под лучиной. Поставил на стол холодный котел, перекрестился и стал есть.
Тесто у Меченки подошло к ночи, а печь выстыла. Она побежала из избы за дровами, возвращаясь, запнулась о порог. Ко всему прежнему беспорядку по тесной казачьей избенке разлетелись поленья. Иван облизал ложку, ткнул ее в мох под потолок, где жене не достать. Терпеливо положил три поклона на темнеющий образок и полез на полати. Жена недолго шебаршила у печи. Хлеб она так и не поставила. Едва укачала сына, мышью вскарабкалась к мужу, знала: ночь простит и помирит. Хоть в этом уродилась женой. Васька жаловался, что пока не принудит свою, Капа так и не вспомнит про супружеский долг.
Утром нетерпеливо, по-свойски, кто-то застучал в ворота острожка.
– Спите, нехристи, в праздник? – гнусаво завопил за тыном Якунька Сорокин.
Иван высунул голову из оконца. Бусило[45] низкое небо. Рассветало. Васька Колесников прошлепал босыми ногами по плахам двора.
– Что надо? – окликнул казака, снимая закладной брус.
– А то! – как распаленный петух, ворвался Якунька и хищно повел по сторонам драным носом. – Стрельцы с Оби в Енисейский возвращались и заплутали в протоках. Среди ночи Михейка Стадухин приполз к нам на карачках. Говорит, дым учуял. Служилые с бабами и с детьми пропали. Искать их надо!
– Своих-то на кого бросим? – растерянно взглянул на Ивана Василий.
– Твоя кобыла ухватом от тунгусов отобьется! – хохотнул Якунька. После того как Колесников отбил невесту у его брата, он не упускал случая посмеяться над Капой и припомнить стрельцу его грех.
– Останься! – приказал Иван и стал собираться.
К утру тесто в квашне опало и кисло, приторно засмердило. Кроме засохших в котле остатков каши, подкрепиться было нечем. Василий мигом оценил услугу Ивана. Не успел тот промазать дегтем просохшие бахилы, в его избу, сгибаясь в низкой двери, вошла Капа и трубно проголосила, глядя на Ивана большими детскими глазами:
– Васька велел тебя накормить! – Охнула и хлопнула по бокам длинными руками, увидев опавшее тесто, испуганно взревела и взглянула на высунувшуюся с полатей заспанную подругу: – Я Ваньку-то у себя накормлю! А после хлеб испеку на всех! Пропадет ведь тесто. Грех.
Пелашка заметалась по избе, подбирая с полу разбросанные поленья. Капа поманила Ивана в свою опрятную избенку. «Что с того, что глупа? – думал, надевая кафтан. – На кой он, бабе, большой ум?»
Не глядя на жену, он обмотался кушаком, повесил на бок тесак, сунул за кушак топор, перекинул через плечо лямку патронной сумки, привычно щелкнул пряжкой шебалташа, стянув ремни на бедрах, чтобы не болтались ни сумка, ни тесак. Подхватил ручную пищаль и хлопнул дверью. Подкрепившись у Колесникова, он быстро зашагал к недостроенному гостиному двору.
Когда Иван вошел в гостевую избу, Михейка Стадухин, обессиленный и голый, спал на лавке возле печи. Его лицо кривилось от претерпеваемой боли. У ног грудой валялась грязная одежда, в которой он приполз. Пищаль и сабля, протертые ветошью, стояли в головах, под рукой.
Дед Матвейка подбрасывал в печь щепу, тихо охал и жалел пропавших стрельцов. В избе было жарко. Едва вошли Иван с Якунькой, лицо Михейки Стадухина напряглось, стало строгим, он открыл глаза и сел, свесив с лавки голые ноги. Вид стрельца был вполне отдохнувшим. Невысокий, недородный, будто скрученный из жил, он с удалью тряхнул головой, мысленно отгоняя от себя все пережитое.
– Дай сухую одежу! – приказал, начальственно глядя на Ивана. – Без меня вам никого не найти.
– Дай что-нибудь из своего припаса! – обернулся Иван к приказному.
– Что дать-то? – сварливо заохал старик. – С себя только снять?
– С себя сними! – приказал Иван, начиная злиться. – В избе можно и голым посидеть. – Стрельца же строго спросил: – Что в болото полезли?
– А заплутали! – передернул тот жилистыми плечами. Потупился, скрипнул зубами. – Не тем притоком ушли к полночи. – Резво вскочил на ноги. На миг болезненно покривилось его лицо и тут же оправилось. Он опять взглянул на Ивана с вызовом: – Я сотнику столько раз говорил – не туда идем, что грозил мне заткнуть глотку старым ичигом. Дозатыкался! Утоп в трясине! Прости, Господи! – размашисто перекрестился Михейка с яростным лицом. – Хорошо еще, баб и детей оставили на острове у остяцкого шамана. Не то уморили бы всех до смерти.
– Отчего разбрелись-то? – мягче стал допытываться Иван. – Струги где?
– Бросили! – неохотно признался стрелец. – Река кончилась. Пошли напрямик, увязли! – вяло махнул рукой, исподлобья метнул быстрый взгляд в красный угол.
Якунька Сорокин, молча слушавший стрельца, скривил губы, гнусаво проворчал:
– Видали таких удальцов! Спаси бог связаться.
Уловив в его словах и голосе какой-то подлый намек, полуголый стрелец с яростным лицом двинулся на казака. Иван удержал его и толкнул на лавку. Якунька боязливо выскочил из избы. Старый приказный с жалобами и ворчаньем достал из сундука кожаные штаны, такую же рубаху, снял с себя стоптанные ичиги. Михейку приодели. Он нацепил саблю, вытащил из мокрых, раскисших бахил засапожный нож.
Братья Сорокины и Похабов двинулись по болоту следом за ним. Под ногами хрустели заледеневшая к утру трава, покрывшиеся льдом лужи. Местами видны были застывшие следы Михейки, где он полз и лежал. Шагая за ним, Иван видел, что каждое движение дается стрельцу с усилием. Но он шел в промокших ичигах. Еще и поторапливал Сорокиных, указывая на чахлые колки больного, низкорослого березняка, которые надо было осмотреть.
Первым нашли Дунайку Васильева. Молодой стрелец, облепленный тиной и грязью, сидел на кочке и спал, уронив голову на грудь. Между его ног была зажата тяжелая крепостная пищаль. Васька Черемнинов в полуверсте жег костерок на сухом островке и сушился. Завидев Михейку Стадухина, он стал матерно ругать его. И быть бы драке между чуть живыми от усталости людьми, если бы Иван не растащил их.
Еще двоих нашли живыми по пояс в трясине, в обледеневшей одежде.
– Кому силы девать некуда, тащи товарища! – приказал Иван.
Дунайка с несчастным, разобиженным на весь свет лицом, мотаясь как пьяный и заплетаясь, потащился по свежему следу. Как дубину, он волок за собой по грязям пищаль. Двоих, обессилевших, чуть не околевших в трясине, повели под руки Черемнинов и Сорокины.
К полудню Похабов со Стадухиным нашли еще двух стрельцов. Стали возвращаться вчетвером. Возле избы Михейка закачался, стал часто запинаться и падать. Потом подполз к стене, сел, навалившись на нее спиной, и уснул. Без чувств его затащили в избу братья Сорокины.
По их следам к вечеру вышли из болот стрельцы Терентий Савин с Дружинкой Андреевым. Для них, последних из блуждавших, возле гостевой избы стреляли холостыми зарядами. Якунька Сорокин, не в силах сдерживать злой язык, подначивал, что блуждали они в местах, которые проходили не раз и не два.
– Тайгун осерчает – меж трех сосен обведет и закружит! – обидчиво оправдывались измученные люди.
Те, что успели прийти в себя, парились в бане и рассказывали про остров, где оставили жен с детьми и двух служилых. Сотник Поздей Фирсов по пути делал затеси. Когда он утонул, стало не до них: выходили кто как мог.
У большинства стрельцов, выбравшихся из болот, распухли ноги. Идти на поиски оставленных ими на острове могли только двое: отдохнувший Михейка Стадухин и Дружинка, который говорил, что помнит путь. Он считался умным и осторожным стрельцом. Ему верили. Искать затеси сотника все сочли безумием. Утром казаки Михейка Сорокин с Иваном Похабовым и два стрельца отправились в путь на легких берестянках.
Разбивая лед веслами, они весь день блуждали среди проток. Дружинка вскоре признался, что заплутал и не знает, где остров. Опять стреляли холостыми зарядами, прислушивались. Ночевали у костра. На другой день нашли брошенный струг. Вскоре услышали ответные выстрелы.
Стрельцы и женщины с детьми были живы. Они не голодали, так как сотник оставил им весь припас. Бабы стадом толклись на топком берегу и ревели как коровы. Молчала одна сотничиха с бледным лицом. Она была брюхата, прижимала к груди двух притихших сыновей, глядела на стрельцов страшными, вопрошающими глазами.
– Взял дедушка! – смущенно оправдывался перед ней Стадухин. – Сами едва не потопли, а вытянуть его из трясины не смогли. А ты не пропадешь! Найдем тебе другого мужа на хорошем окладе.
В стороне возле небольшого дымного костерка сидел на корточках старый кетский шаман. Лицо его было сморщенным, как засохший гриб, к тому же черным и бугристым, как березовый нарост чаги. Седые длинные волосы свалявшимися прядями свисали на грудь и спину. На плечи его была накинута парка, шитая из разных шкур, со множеством побрякушек и звериных хвостов.
Иван перекрестился от осквернения и подошел к огоньку.
– Правду он сказал? Правду? – с воплями кинулась к шаману сотничиха. Иван невольно перехватил ее руки. – Колдун проклятый! – верещала вдова и обливалась слезами, обвисая на казаке. Женщины подхватили ее под руки, увели к стругу.
Старый шаман даже глаз не поднял на кричавшую сотничиху. За его спиной был ветхий балаган. На пнях вырублены личины. Медвежья шкура с длинными когтями висела на жерди.
Женщин и детей стрельцы усадили в струг. Шаман равнодушно принял связку набитых в пути гусей, с безразличным лицом ощупал подаренное ему в почесть и благодарность одеяло. Нельзя было ссориться с верными ясачниками Маковского острога. Чем он обидел сотничиху, Иван спрашивать не стал.
Вдруг глаза шамана, глубоко запавшие в морщины, остановились на золотой пряжке шебалташа. Лицо старика оживилось. Он с любопытством взглянул на Ивана, потянулся к ней желтыми скрюченными пальцами.
– Дарю в почесть! – Иван охотно скинул с себя опояску и кинул ему на колени.
Шаман судорожно и брезгливо, как змею, сбросил шебалташ на землю. Потом опасливо ощупал бляхи. С непроницаемым лицом долго разглядывал их. Соединил и разъединил. Затем заложил пряжку между ладоней, смежил морщинистые веки и тихонько запел, покачиваясь на корточках. Ивану показалось, что старик на свой лад радуется подарку.
Он еще раз поблагодарил его по-остяцки и махнул рукой. Дружинка на корме струга уже отталкивался шестом от берега. Груженое судно не двигалось с места. Стадухин с носа окликнул Ивана, чтобы помог толкнуть струг на воду, и тот уже обернулся к товарищам, беспечально расставаясь с бляхами, доставшимися ему под Тобольском чудно и даром. Но шаман вдруг открыл глаза, поднялся, что-то забормотал и втиснул шебалташ казаку за кушак.
– Говорит, нельзя дарить! – громко перевел его слова Михейка Стадухин, не раз ходивший к кетам за ясаком. – Говорит, голова твоего брата живая, скоро ты с ним встретишься! – Стрелец зло хохотнул и сплюнул в протоку. – Дикие, что с них взять?
Иван неохотно забрал шебалташ, помог столкнуть на воду струг. Сам сел в берестянку. Скрежеща веслами и шестами, суда стали продвигаться среди травы и тины. Милостью Божьей они вышли к Маковскому острожку все живы.
На другой день стрельцы и женщины с детьми отдыхали. Потом стали собираться в Енисейский острог. Приказный дал им двух казенных коней с волокушами. Из своих острожных служилых с отпиской для воеводы отправил на Енисей Ивана Похабова. И все подначивал, смеясь, дескать, вожем дает стрельцам казака, чтобы те снова не заплутали на волоке, а сотничиху звал за себя в жены.




