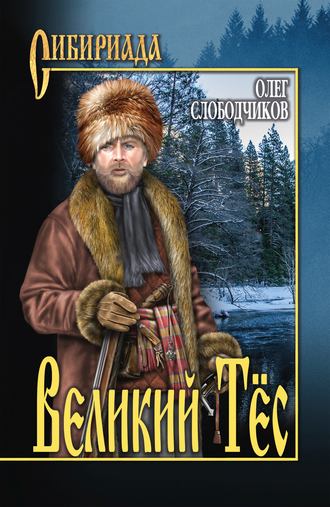
Олег Слободчиков
Великий Тёс
Глава 2
Пантелей откинул лосиную шкуру, навешанную вместо двери. Балаган вздрогнул от порыва ветра. Дым очага с золой и сажей лег на меховые одеяла. Передовщик до пояса высунулся наружу, набил котел снегом. Когда он укрыл вход, его длинная густая борода была бела.
Старый Омуль, затаив дыхание и смежив веки, привычно перетерпел едкий дым и ворвавшийся в балаган порыв ветра со снегом.
– Все сибирцы горазды пограбить! – посопев мокрым носом, гнусаво продолжил прерванное поучение.
Его уже ничто не пугало, он никуда не спешил и мог целыми днями сидеть у огня. Старик ни словом, ни взглядом не винил передовщика за то, что в ватажке осталось только четверо промышленных, равнодушно предупреждал, что при нынешнем малолюдстве надо быть осторожней.
Нанятые Пантелеем люди ушли, как только поняли, что ватажка промышлять не будет: не захотели всю зиму таскать чужой припас за один только прокорм. Зимовка в Енисейском остроге была для них если не сытней, то легче и безопасней.
Пантелей Пенда по сказам Михея Омуля кратчайшим путем шел к верховьям Ангары-Тунгуски. Старик караулил животы[20], сам передовщик с двумя спутниками челночил груз нартами. Двое волокли первую нарту, тропя по снегу путь. За ними тянул груженую нарту третий. Днище ходу вперед, возвращение за оставшимся грузом, снова переход до стана. И так изо дня в день.
Здешние места считались мирными. В прошлом году побитые братскими дайшами[21] тунгусские князцы Ялым и Иркиней приезжали в Енисейский острог, присягали русскому царю, доброй волей давали ясак со своих мужиков и с рода князца Югани. Нынешней осенью наведывались князцы Тасей и Тарей, без принуждения привезли ясак за год.
Воевода боялся порушить шаткий мир с тунгусами Тасеевой реки. В наказной памяти, которую дал ватажке Пантелея Пенды, грозил расправой, если русские промышленные чем-то обидят здешние роды или станут промышлять без их согласия в родовых угодьях, или сделают им какое худо.
Балаган стоял на берегу притока Ангары. И был этот приток вдвое шире Лены-реки в тех местах, где бывали Угрюм с Пантелеем и Синеуль. Сама же Ангара подо льдом была так широка, что в иных местах путники сомневались, в какой стороне коренной берег.
Пантелей замер вдруг, прислушался, снова откинул лавтак. Едкий дым очага опять пахнул в лица, выедая слезы из глаз.
– Кажется, едут? – встрепенулся: – Тунгусы! Олени хоркают!
Он торопливо перекинул через плечо сабельный ремень. Обнаженный до пояса Синеуль молча оделся. Михей с Угрюмом положили стволами к выходу заряженные пищали, подсыпали из рожков пороху на запалы.
В снежной пелене показались рогатые олени и съежившиеся на их спинах верховые люди. Всадников было только двое. Безбоязненно, по-хозяйски, они подъехали к балагану, спешились и поприветствовали лучи[22] на свой лад: вот, дескать, мы и пришли!
Пенда с Синеулем ответили им по-тунгусски, пригласили под кров. Олени отошли на десяток шагов в сторону и стали копытить снег. Рядом с ними бесшумно, как тени, появились две собаки, осторожно подошли к балагану и легли, свернувшись клубками.
Михей с Угрюмом подвинулись. Гости протиснулись в тесное жилье, сели возле входа, скинули башлыки, шитые заодно с парками, раздеваться не стали. На балаган они наткнулись случайно: ехали по своим делам и учуяли запах дыма. Длинные черные волосы у обоих мужиков были связаны на затылке наподобие конских хвостов. Их лица были испещрены синими знаками татуировок.
– Здешний князец Тасейка с сыном! – по-русски сказал Синеуль и весело залопотал, выспрашивая гостей о новостях. Говорил он многословно, заскучав по своему языку. Тасейка важно щурил узкие глаза, отвечал односложно, неторопливо расспрашивал, куда они держат путь. За тонкой стеной балагана послышались грозное хорканье и клацанье рогов. Синеуль выглянул наружу, вскрикнул:
– Ак![23] – Олени дрались между собой. Один повалил в снег другого, вскакивал на задние копыта и бил поверженного в грудь острыми передними. – Вадеми![24]
Тасейка равнодушно взглянул на дерущихся животных, пробормотал: «Э-э-э!» и продолжал неторопливый разговор. Собаки лежали в снегу и молча наблюдали за оленями.
Тасейка приметил в балагане малый походный топор и стал показывать, что он ему очень понравился. Дарить его топором было дорого и ни к чему: все равно ватажка не собиралась промышлять на реке. Синеуль стал торговаться, почтительно называя князца «мата»[25]. Взять с тунгусов было нечего.
– Сторгуюсь за собак? – спросил передовщика по-русски.
– Зачем они нам? – равнодушно пожал плечами Пантелей.
– Промышлять буду по пути. Глядишь, чего добуду!
– Торгуйся! – неохотно разрешил тот, лишь бы не отдавать топор даром, как ясак.
Угрюм помалкивал, не понимая, как можно удержать при себе чужих собак, вопросительно поглядывал на Михея. Тот вполуха прислушивался к разговору и уже подремывал.
Малый походный топор да горсть бисера в подарок так обрадовали князца, что он разрешил промышлять на его земле, что пожелают кроме лосей.
– Обойдемся без лосятины! – согласился передовщик.
К немалому удивлению Угрюма, князец сказал собакам строгое слово, Синеулька поговорил с ними по-своему – и собаки остались возле балагана.
– Тунгусы и медведей заговаривают! – зевнул старый Омуль. Тонкие беззубые губы в редкой бороде вытянулись, как рот у осетра или стерляди. И таким мирным, жалким, беспомощным показался Угрюму этот старик, что с трудом верилось всему тому, что слышал о нем от старых промышленных. И подумалось вдруг: «И что его Омулем прозвали, а не Осетром или Стерлядкой?»
– Много спать – добра не видать! – затемно разбудил спутников передовщик. В его обледеневшей бороде позвякивали сосульки. Пантелей уже сходил к проруби и умылся. – Морды-то сполосните! – стал понуждать проснувшихся спутников. – А то как дикие: встаете – не моетесь, ложитесь – не молитесь!
Синеульку с собаками и с луком он отпустил вперед налегке тропить путь и добыть мяса. Старик остался в балагане, сторожить припас. Втроем они сорвали с места десятипудовую нарту. Кряхтя и елозя ногами по льду, двое промышленных потащили ее вдоль берега. Омуль вернулся в балаган.
Когда человек идет с собаками – они его ведут, а не он их. След Синеуля то и дело уходил в лес. Никакой пользы от новокреста с собаками не было. Там, где лед был заметен снегом, тропить и чистить путь для нарты приходилось опять им двоим.
К вечеру Угрюм поплелся налегке в обратную сторону на старый стан, передовщик остался рубить новый. В балагане было тепло и просторно. Дров Михей наготовил, хлеба напек, каши наварил, даже рыбы в проруби наловил. Угрюм, отдыхая, неприязненно наблюдал, как старик неторопливо, с удовольствием, обсасывает рыбью голову, то и дело расправляет пальцами мокрые седые усы. Омуль был вполне доволен пережитым днем и своей нынешней жизнью.
Угрюм сел, вытянув ноги, похлебал ухи из котла, опять откинулся на одеяло.
– За что тебя Омулем прозвали? – спросил. – Слыхал я, что ты прежде много ходил и воевал. Не мое дело! Но почему Омуль? Никак не пойму!
Старик ухмыльнулся сжатыми в трубку губами.
– Молодой был глупый да горячий! – прочмокал вздыхая. – На злое слово скорый. Рыба есть такая, омуль. Из воды ее удой тянешь, а она верещит, будто тебя матерно лает. За то и прозвали!
Старик, как пташка, стал закрывать глаза истончавшими веками, моститься ко сну. Сыто икая, Угрюм опять спросил:
– Скажи по правде, неужто где-то там, – повел глазами на восход, – есть русские села?
– А то как же? – чуть оживился Михей. – Я сам не дошел, – признался со вздохами, сонно прикрывая глаза, – духу не хватило! Но много чего слыхал о Великом Тёсе, чего сказывать нельзя по прежним клятвам.
Угрюм, глядя на всхрапнувшего старика, недоверчиво усмехнулся. Упрямство Пантелея Пенды он знал по прошлым промыслам, а этой зимой передовщик вел себя так, будто и не думал добывать пушнину. Похоже, он собирался искать то, о чем смутно и тайно говорили старые промышленные: будто где-то в урмане, на тайном тёсе, есть старые русские города и села. Будто новгородские люди, спасаясь от богомерзкой войны с единокровной Москвой, ушли туда давно.
Подозревал Угрюм, что Пантелей не взял в покруту никого из гулящих, чтобы не было споров и разногласий в ватаге. Всякие мысли одолевали молодого Похабова после неудачного сватовства в Енисейском остроге. И нынешнюю ватажку передовщик подобрал под себя: Михейке Омулю лишь бы сыту быть да поменьше мерзнуть, Синеульке лишь бы на месте не сидеть. А ему, Угрюмке, что? Он бежал от обиды. Может быть, сдуру, но теперь уже не воротишься.
В тайге люди дряхлеют быстро. Иной тунгус в пятьдесят лет выглядит как древний старец. Михей по годам был ровесником енисейскому воеводе и скитнику Тимофею. Но разве сравнишь их? Те еще крепкие, а этот – ветхий. Приглядывался Угрюм к старику и с невольным страхом примерял на себя его судьбу.
Синеуль с собаками добыл двух глухарей, тощую козу и рыжеватого соболька, которому в Енисейске красная цена – десять алтын[26]. Это была первая, хоть и поздняя, добыча. Правда, по наказу передовщика Синеулька сделал еще шалаш в днище пути от последнего стана. За несколько ходок ватажные перетаскивали туда весь груз.
Небыстро продвигалась ватажка к верховьям реки. Тунгусы встречались часто. Они кочевали родами в два-три чума: с женщинами и детьми, бывало, человек до двадцати. При встречах охотно торговали с промышленными.
Ночами от лютой стужи с грохотом разрывался лед. По утрам по долине реки, к которой с двух сторон подступали кряжистые ели и сосны в два обхвата, дул пронизывающий ветер. К полудню так ярко светило солнце, что птицы, и даже воронье, поднимали галдеж в густых ветвях деревьев.
Собаки подавали голоса то с одного берега, то с другого. Пока хватало мяса, Пантелей не отпускал Синеуля на промысел, заставлял тянуть нарту. К вечеру собаки прибегали к костру злыми, с ненавистью глядели на новокреста. Синеуль по-тунгусски оправдывался перед ними. Жаловался спутникам:
– Уйдут! Осерчали, что мы не охотимся! Ругают меня.
Псы зарывались в снег, глядели на огонь пристальными волчьими глазами, молча водили усами, дожидались обглоданных костей. И правда, что-то менялось в их мордах.
– Уйдут! – стонал Синеуль и крутил лохматой головой. – Вон как глядят, – кивал на собак и снова начинал разговаривать с ними. Псы же на его слова только равнодушно щурились, не соизволяя шевельнуть хвостом или прижать уши.
В среднем течении реки ватажные шли две недели, никого не встречая. За поворотом следовал новый поворот. Берега были круты. В иных местах к ним подступали скалистые гривы с лесом. Река подо льдом все круче поворачивала на полдень.
– До самых верховий идти? – то и дело переспрашивал старого Омуля передовщик.
Старик терпеливо чмокал стерляжьими губами, равнодушно оглядывал окрестности, повторял уже сказанное:
– Исток далеко! Там, сказывают, кызыльцы кочуют или киргизы. Не слыхал, чтобы кто оттуда возвращался. А мы, как стрелку пройдем.
– Так прошли уже, – напоминал передовщик.
– Правый приток тунгусы Чуной зовут, – невозмутимо продолжал сюсюкать старик, – как повернет на полдень – Кызчак будет, по-кызыльски – бабьи титьки, гора такая. Промеж тех каменных титек волок.
– Да ты, поди, забыл, какая она, баба? – язвил передовщик, испытывая старческую память, которой не очень-то доверял. – А то и не знал вовсе. Про медвежьи, поди, сказываешь, а мы, как дураки, высматриваем бабьи.
– Как не знал? – беззубо посмеивался старик. – В Мангазее со стрелецкой женой прелюбодействовал с месяц. Ох, сладко любила меня, – пускался в воспоминания, которые ватажные слышали уже не раз.
По неписаным законам старых промышленных говорить в тайге про женщин и девок запрещалось. Но ватажка была малой, подступала весна, а обещанного волока все не было. Шутливая перепалка передовщика и старика бередила сердечную рану Угрюма. Он то и дело вспоминал Меченку, пренебрегшую им. Ненавидел эту злющую хитрую девку, но, глядя на старика, опять ужасался бесприютной старости, которая могла ждать и его самого.
Задула Евдокия-свистунья. Пришла весна. Почти не потеплело, но с полуденных земель ветер уже доносил запахи талой земли и перепревших трав. Михей пытливо поглядывал на повеселевшие лица спутников и с важностью поучал:
– Месяц марток наденет пять порток!
Синеуль кривил тонкие безусые губы. По своим тунгусским приметам он называл, какой нынче снег и какая весна. У русичей зима исчисляется по святым, у тунгусов – по снегу, который имеет десятки названий.
Собаки ушли. Не было их день и ночь и еще день. Но к другому вечеру они все-таки вернулись. Улеглись в стороне от костра, глядели на людей пристально, как волки. На днях Пантелей с Угрюмом пробовали запрячь их в бечеву, и, как ни погоняли, собаки не понимали, что надо тянуть нарту: ложились на снег или сидели, показывая, что не дураки дергаться, когда привязаны.
– Утром совсем уйдут! – безнадежно всхлипнул Синеуль. – Делай дневку! – попросил передовщика. – Или отпусти меня.
– Спешить надо! – не соглашался Пантелей. – Вот перевалим по насту за гору, тогда… А собак на ночь можно привязать.
Привязали. Те подергались и стали грызть бечеву. Привязали волосяной веревкой. Собаки среди ночи так завыли, не давая людям уснуть, что Пантелей выполз из-под одеяла, отвязал их и успел поддать ичигом под зад одному из псов. Не было их день, другой и третий.
– Обиделись и ушли совсем! – объявил Синеуль, сдвинул к переносице брови, набычил шею, как передовщик. – Куда смотрели, мать вашу еть? – строго спросил его голосом. Склонил голову, вытянув шею, выпятил губы, становясь похожим на старого Омуля: – Се имя голодным? Ума-то нету. Тунгусу нас рзаной припас – тьфу! Того и гляди – сам сбезит.
Сипло захохотали промышленные. Угрюм смеялся громче всех. Его Синеуль тоже передразнивал, но ему казалось, что не так похоже, как других.
Неделю шли без собак. Волокли нарты целыми днями, ночевали без крова у костров. Готовясь к очередному ночлегу, новокрест начал было разгребать плотный снег, но вдруг вытянул шею, прислушался.
– Собаки! – прошептал. Затрепетали ноздри приплюснутого носа.
Принюхался и Угрюм. Студеный ветерок донес запах дыма. На извилине реки, возле мыса, стояли два тунгусских чума, берестяная юрта и бикит[27] в шесть стен, покрытый плоской крышей. Срублен он был сикось-накось.
К промышленным вышел длинноволосый мужик со скуластым обветренным до черноты лицом. Волосы его были сплетены и висели короткой косой между плеч. Он оглядел прибывших, приветливо кивнул. Земля вокруг чумов была ископычена скотом. На стане витал непривычный для тунгусов запах коней.
Синеуль переговорил с мужиками и сообщил, что они братские кыштымы[28], а сам стал с упоением лопотать, о чем-то им рассказывая. Пантелей и Угрюм прислушивались, пытаясь хоть что-то понять. Но новокрест тараторил слишком быстро. Из чумов и из леса вышли еще четыре мужика, стали внимательно слушать Синеуля. Неприязни к гостям они не показывали. Откинув полог, из чума вышла женщина с берестяной люлькой на шее.
Наговорившись, Синеуль стал пересказывать ватажным, что илэл[29] пришли с Подкаменной Тунгуски. Там они перессорились с родней, а здесь с тунгусами не породнились. Живут небедно: родственники сочли бы их за богачей. Но вынуждены пасти табун братских людей и по уговору далеко не кочуют.
Ватажных они пригласили в чум. В нем возле тлевшего очага управлялись две жены князца. Из-за полога выглядывал немощный, седой и сморщенный старик. Хозяин с важностью усадил гостей на шкуры. В чум влезли еще четыре мужика. Под кровом сразу стало тесно и душно. Тунгусы скинули парки, оставшись до пояса голыми, и начали расспрашивать Синеуля о Енисейском остроге, про который до них доходили разные слухи. Новокрест отвечал степенно, важно надувал шею, хмурил брови, подражая Пантелею. Он долго и многословно говорил, как хорошо живут лучи, какой у них сильный царь.
Тунгусы слушали его и бросали тоскливые взгляды на молчавшего Пантелея. Князец пояснил, что они тоже хотели бы платить царю ясак, чтобы не сидеть на месте с братскими конями. Но без братов их здесь все будут бить и грабить.
Ни о каком волоке между гор, похожих на женскую грудь, они не знали. Но знали конную тропу, по которой браты ездят грабить кызыльцев, киргизов и тунгусов, а те – братов. Обещали дать вожей.
Промышленные переночевали в берестяном чуме, обменялись подарками и поволокли свой груз дальше на полдень. Указанным путем они перевалили к истоку какой-то таежной речки среди лесистых гор, и тут старый Омуль узнал гору:
– Вон они, про которые сказывал! – показал рукой на две скалы с острыми вершинами.
Пантелей грозно крякнул:
– Это рога, а не титьки! Между них никакого волока не может быть!
– Мимо! – спохватился старик, виновато переминаясь. – Запамятовал. Это когда я был здесь? Упомни-ка все.
По словам старого промышленного, лет пятнадцать назад, возвращаясь с Ангарских порогов, ватага промышленных в этих местах спрятала струги. Передовщик сомневался, что старик найдет те суда. А если они и нашлись бы, то целы ли после стольких лет? Строить новые лодки нужно было здесь и до вскрытия реки.
Ватажные разбили табор, поставили шалаш. На другой день Пантелей отправил Синеуля добыть мясной припас. Угрюма он оставил на стане сторожить добро, а сам со стариком отправился искать струги. Они вернулись к вечеру. Передовщик был весел и придерживал под руку Михея, чуть живого от усталости. Старик доплелся до костра и упал, отказываясь от еды.
– Стоят! Целехоньки! Берестой укрыты. Рассохлись, конечно. Но один из двух собрать можно, – радовался Пантелей.
Наутро ватага сложила груз в нарты и по хрусткому чернеющему льду речки пошла на новое место. К полудню на льду появились лужи. С каждым днем становилось все теплей. Но весь груз был доставлен к месту по льду.
Струги были сделаны по старине: на долбленых основах наращены тесовые борта. Кое-где тёс замшел и сгнил, в иные щели лезли пальцы. Но это ничуть не смутило передовщика. Он заставил Михея с Синеулем копать березовые корни в мерзлой земле и варить смолу. Сам на пару с Угрюмом разобрал оба струга, ощупал и проколотил всю древесину.
– За неделю управимся, а то и раньше, – радовался, разглядывая работу незнакомых, уже состарившихся людей. Окликал старика: – Когда ты здесь был?
Омуль откладывал свою работу, начинал шевелить губами, загибал пальцы, чесал морщинистый затылок с редкими свалявшимися волосами. Отвечал неуверенно:
– Енисейского не было. А Тимофей жил в скиту. У меня зубы были крепкими. Кости еще грыз, что пес!
– И горячее вино хлестал кружками! – добродушно посмеивался передовщик.
– Да уж это как водится, – смущался старый промышленный.
Оттаяла земля. Тайга заблагоухала сладким духом березового сока. Промышленные стали запаривать в нем брусничный лист, взятый из-под снега. За неделю они не только собрали и просмолили струг в три пары весел, но и по-тунгусски сшили из бересты ветку – легкую завозную лодку.
Вскрылась река и вскоре очистилась ото льда. Затосковавший на одном месте Синеуль засуетился, предвкушая перемены. Работал он меньше всех и больше всех бегал по лесу, выслушивая глухариный ток. Пантелей боялся потерять толмача, не хотел, чтобы тот прибился к чужому роду, прельстившись молодой тунгуской. Весна она для всех весна. Даже старый Омуль глядел на стылую воду, волнуясь, шевелил губами, глубоко вдыхал весенний воздух и надеялся на что-то свое.
Прежде, бывало, слова из него не вытянешь о Великом Тёсе. Если и вспоминал о прошлом, то о гульбищах, торговых банях с сусленками[30], добрых и злых воеводах. А тут заговорил, как поднимался со стругами по Верхней Тунгуске до Большого Каменного порога, через который его ватага пройти так и не смогла. Вспоминал, что промышляли они соболя возле братских улусов. Весной двинулись вверх по притоку этими самыми местами. Легкого волока не нашли, бросили струги и другую зиму промышляли на Тасее, а к весне сплыли к Енисею плотами.
Говорят на Руси: «Пришел Пахом – пахнуло теплом». На святого Пахомия-бокогрея, помолясь Николе Чудотворцу да Святой Троице и всем святым покровителям, промышленные столкнули на воду тяжелогруженый струг. Он степенно закачался на стылой воде, пахнущей льдом и рыбой.
– С Богом, что ли? – еще раз перекрестился Пантелей. Сел на корму. Течение понесло судно с мотающейся за кормой веткой. Речка не была бурной, хотя и текла между гор. По берегам из-под желтеющего покрывала прошлогодней листвы буйно пробивалась зелень. Над отопревающей землей, еще скромно и в одиночку, вставали на крыло комары.
Впереди зашумел перекат. Передовщик велел подогнать струг к берегу. В промазанных дегтем бахилах вошел в студеную воду, пошарил по дну шестом и указал, где разбирать камни. Старика жалели, он сидел в струге и виновато водил по сторонам влажным носом. Трое работали до ломоты в суставах, пока не протолкнули струг через каменистую отмель. Наконец снова поплыли, поминая добрым словом святых своих покровителей.
На устье река широко разливалась по долине. На сочной траве стояли три тунгусских чума. Вдали, возле леса без травы и кустарника, но с пышным покровом мха, паслись олени. Завидев плывущих по реке, на берег выскочил тунгусский мужик с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, замахал руками. Промышленные налегли на весла и приблизились к берегу.
– Спроси, какой товар нужен! – наставлял Синеуля передовщик. – Чтобы попусту не доставать мешки, как в прошлый раз.
Новокрест прытко выскочил на сушу, весело затараторил с тунгусом.
– Здесь по-другому говорят! – крикнул передовщику. – Половину только понимаю. Лося без нас поделить не могут! Вот и зовут.
Старик с Угрюмом остались при судах. Синеуль с передовщиком ушли в лес следом за тунгусом. Пробыли они там долго и вернулись с большим куском мяса. Синеуль смешливо бранил Пантелея:
– Я бы у них ребра забрал! А ты взял шею – самое плохое мясо.
– Они бедные! – оправдывался передовщик. – А мы не голодаем.
– Приходим, – стал азартно рассказывать новокрест Угрюму с Михеем. – Узкоглазые мясо поделить не могут. Не верят друг другу: каждый для своих родственников лучший кусок хочет взять. А нам что тот, что этот. Так поделили, что все остались довольны.
– Не бреши! – огрызнулся передовщик.
– Все равно довольны. Нам давали лучшее мясо, а он, – кивнул на передовщика, – шею взял. Мне-то что? – Цыкнул сквозь зубы: – Этыркэн[31] Омуль без зубов. Ему жилы не перегрызть. Ну и тупой у нас передовщик, прямо как русский!
– Это енисейские тунгусы! – досадливо отмахиваясь от толмача, стал оправдываться перед стариком Пантелей. – Они бывали на устье Ангары, видели острог. Говорят, по реке и внизу и вверху – скалы. Те, что вверху, берегом не пройти, а обходить далеко. А за ними живут братские конные люди в войлочных юртах. Скота у них много. А еще сказывают, верь не верь, – блеснул глазами, – за каменными щеками среди братских мужиков есть бородатые шаманы.
Ватажка ночевала на берегу, выше устья речки, по которой сплыла с верховий. Полноводную Ангару промышленные узнали по запаху и цвету воды. Михей припомнил, что сюда от устья в прежние времена он шел бечевой месяца полтора. На этот раз, прямым путем, они шли четыре месяца, правда, с большим грузом, да еще промышляли в пути.
С порогов доносился гул ревущей воды. И был он так силен, что приходилось напрягать голос, разговаривая у костра.
– Ну, вот и привел, куда говорил, – важно выкрикивал старичок, по-петушиному вытягивая шею, оглядывал Пантелея с Угрюмом выцветшими рыбьими глазами. – Дальше я с большой ватагой не смог подняться. А как вчетвером? Ой не знаю! – тряс седой бородой и скоблил пятерней морщинистый затылок. – Дальше не был, врать не буду! – прокричал и выдохся, уронив голову на грудь.
Утром передовщик ушел глядеть порог. Синеуль с луком убежал на промысел. Михей с Угрюмом остались на таборе караулить струг с животами. Припекало солнце, начинал лютовать оживший комар. Плескалась рыба у берега. Угрюм вырезал удилище, пошел кромкой воды. Одной рукой закидывал крючок, другой отмахивался от гнуса. Старик замесил тесто и выставил квашню на солнце. Передовщик велел ему напечь хлеба впрок.
Вернулся Пантелей только к вечеру. Бросил у костра пищаль и топор, весело объявил:
– Даст Бог, пройдем! Бечевник плох. Местами, у воды, и вовсе отвесный камень. Щеки! А волочься верст с десять.
Михей прислушивался к его словам, приглушенным грохотом воды, вытягивал шею, морщился, недоверчиво качал головой, шевелил стерляжьими губами в седой бороде. Вечером Пантелей перещупал бечевы и веревки, сделал из речного камня завозные якоря.
Вернулся Синеуль, обвешанный набитой птицей. Передовщик, вместо того чтобы похвалить толмача, стал ругать его. Куда, дескать, девать лишний припас, когда каждая гривенка[32] в тягость, а бросить – лешего обидеть.
Синеуль спорить не стал, щипал птицу и пускал перья по воде. Михей начал печь на углях тушки. Насытившись, промышленные рано легли спать, а поднялись затемно. Помолившись, подкрепились едой и питьем. С молитвами потянули струг и берестянку против течения. Угрюм с Синеулем шли на бечеве, Пантелей с Михеем проталкивали судно шестами. После легкого сплава конский труд бурлака был тяжек.
Увидев первые буруны, Угрюм слегка повеселел: ему показалось, что пройти их не так уж трудно. Но за поворотом реки открылся новый плес со страшными камнебоями. И почудилось ему, что время остановилось.
Десять верст ватага шла два дня: то бечевой и шестами, то завозом якорей. Вышли-таки на чистую воду, на пологий берег, где можно было просушиться. Грохот воды так усилился, что без крика ватажные не слышали друг друга.
Передовщик объявил дневку и отдых. На этот раз он отправился осмотреть другой порог с Угрюмом. Они ушли утром с ружьями, бросив табор на Омуля и Синеуля. Идти возле воды долго не смогли, пришлось лезть на отвесную скалу. Сверху сыпались камни и выглядывали горные бараны с гнутыми рогами.
Когда Угрюм смог увидеть разлив реки, он боязливо поежился. Большая вода с ревом скатывалась вниз, пенясь и клокоча возле торчащих камней. Промышленный взглянул на передовщика растерянными глазами и не увидел в его лице прежней бесшабашной удали, зато приметил в густой бороде, возле скрытого ей шрама на скуле, седой клок волос. Пантелей глядел вниз и с остервенением скоблил ногтями этот рубец. Метнув на Угрюма быстрый взгляд, указал на скалу.
Полезли выше. Лезли долго, распугивали ленивых баранов и коз, удивленных появлением людей. Открылся вид на весь порог. Дальше него река текла спокойно, без единой волны. О том, чтобы обнести скалы посуху, не могло быть и речи: гора тянулась сколько хватало глаз. «Разве на себе через гору все лето таскать животы, а к зиме построить новый струг?» – растерянно размышлял Угрюм.
Он уже подумывал о возвращении, но Пантелей склонился к его уху и закричал, указывая пальцем вниз:
– Три прохода есть. Вон за тем камнем вода стоячая. Вокруг бушует, а там только крутит.
Угрюм кивнул, не понимая, к чему этот разговор. Пантелей махнул рукой, успокаивая его, наверное, увидел страх на лице спутника.
Они спустились с горы тем же путем и вернулись на табор. Синеуль пек на рожнах вчерашнюю уже подванивавшую тухлятиной птицу. Михей лежал, лениво отмахиваясь от гнуса.
– Даст Бог, пройдем! – прокричал Пантелей без обычной уверенности. – Крутой! Зато не такой долгий, как тот, – мотнул бородой в сторону пройденного порога.
– А как не пройдем? – с сомнением вскрикнул Угрюм.
– Разобьет в щепки! – усмехнулся передовщик. – Животы потопим. Кто живым выплывет – к братам или к тунгусам в холопы. А что еще? – вскинул глаза, и они сверкнули льдом.
У Угрюма захолодело в кишках. Он вспомнил свой мешок с клеймеными соболями, пустячную добычу этой зимы, бесконечное перетаскивание хлебного припаса. «И чего в Енисейском не жилось?» – подумал с тоской. Прежние обиды показались ему глупыми, надуманными, а то, что теперь он никуда не мог уйти от своих бесноватых спутников, – было очевидным.
– Можно и здесь промышлять! – попробовал спорить. Но не был услышан.
– Дедушку[33] надо задобрить! – крикнул передовщик Синеулю. – Перья по воде пускал – только раздразнил!
– Нашему водяному – перья на одеяло, – приплясывая, заскоморошничал новокрест. – Вашему этого, – шевельнул ногой убитого гуся с поблекшим пером.
– Нашему только свежего да живого! Добудь тупой стрелой! – приказал передовщик и выругался: – Хрен знает, какого роду-племени здешний дедушка. Но зол, мать его еть!
Синеуль подхватил лук и ушел вниз по реке. Вернулся он только к ночи, в мокрой одежде. Двумя руками прижимал к груди завернутого в кожаную рубаху дикого гуся. Птице тут же связали лапы и крылья.
– Люби и жалуй, дедушка, нашу ватажку! А мы тебе гостинец посылаем, – неслышно прошепелявил Михей тонкими рыбьими губами и бросил под водопад бьющуюся птицу. Раз и другой показались из пены птичий клюв да гузка, затем гусь исчез в глубине реки. Примета была хорошей: водяной охотно принял подарок.
Утром, едва промышленные люди подошли к порогу, старый Омуль осмотрел клокочущий поток и закричал, выпячивая стерляжьи губы:
– Узнал! Не через те, через эти щеки не смогли пройти два десятка промышленных.
«Наконец-то и старик испугался!» – боязливо порадовался Угрюм, надеясь вразумить Пантелея с Синеулем.
Передовщик мимоходом обернулся, но он уже никого не слышал, глядел на торчавшие из воды камни, на крутой перепад воды. Глаза его горели, как перед боем, и выискивали верный путь. Он перепрыгнул в ветку, приткнутую к берегу, кивнул Угрюму, чтобы следовал за ним. Тот покорно перешел в шаткую лодчонку. По-кетски опустился в ней на колени, сев на пятки, взял шест в руки.
Выпуская за собой бечеву, двое на шестах стали проталкиваться против ревущей воды. Всякое неверное движение могло развернуть берестянку поперек течения, а боком ей против волны не устоять. Но Бог миловал, а водяной не вредил, и Пантелей с Угрюмом дошли до первого камня. Под ним, в затишье, бросили якорь, закрепились и потянули на себя тяжелый струг. Михей с Синеулем проталкивали его шестами против течения.
Потом был другой завоз и третий. Берестянка опрокинулась. Угрюм выплыл к стругу, болтавшемуся на якоре. Пантелей, с мокрой скрученной в веревку бородой, цепко ухватился за скалу, зубами удерживал бечеву с перевернутой веткой. Синеуль с Омулем да мокрый Угрюм шестами подогнали к нему струг. Наспех отжав одежду, двое снова сели в берестянку, стали проталкиваться дальше против беснующейся воды.
Когда прошли порог и приткнули струг к пологому берегу, Угрюм упал вниз лицом и лежал, подрагивая в сырой одежде, пока не окоченел. Потом поднялся. Все пережитое за день казалось приснившимся кошмаром.




