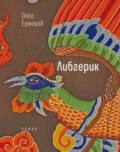Олег Ермаков
Родник Олафа
11
Еще два дня ладья шла вверх по реке сквозь густые великие леса, лишь кое-где тронутые топорами местных жителей. Слева осталась сильная узкая речка Жереспея.
Там как раз два мужика на узкой лодчонке мрежу выбирали. Поздоровались. Спросили у них, что за речка, те и ответили: Жереспея. А с этой речки родом была мама Спиридона, Василиса Перепелка. Так чудно у них с батькой вышло: он – Василий, она – Василиса. Возгорь Василий и Василиса Перепелка. А теперь только одна – Василиса, милая, всегда загорелая, с васильковыми глазами, с густыми темными волосами. А у батьки были светлые. Спиридон в батьку цветом волос, а глазами – в маму.
Он глядел на тех бородатых угрюмых мужиков, похожих на каких-то бобров, хотел сказать им, что его мамка-то отсюда, из Бора. Да как скажешь? Он только глядел и вдыхал дивный аромат расцветших черемух.
Вот и сбылась его давняя мечта – поглядеть эту таинственную речку Жереспею. Только лучше бы все было по-другому, с батькой…
Вот впереди показалось большое селение с тем же названием, что и река, – Каспля. Серые и почернелые дома, будто некие живые существа, облепили склоны холмов по обе стороны реки. В отдалении, на зеленом лугу, пестрело стадо коров и овец под присмотром пастуха на пегой лошадке. Слева на горе стояла деревянная церковь. Золоченый крест на солнце поблескивал. И мужики, отнимая руку от весла, крестились. Крестился, сняв шапку, отороченную мехом, и Василь Настасьич. Осенил себя крестным знамением и мальчик.
Навстречу им плыли сразу две лодки с рыбаками или охотниками. Здоровались, кивая бородами.
Мужики на ладье гребли сильнее, весла рыли касплянскую воду.
И ладья уже шла мимо истобок с плетнями, увешанными тряпками, горшками. На ладью глазели чумазые ребята, бабы. У костерка в одном месте под раскидистой старой ивой сидел белобородый дед, сушил портянки, лапти. И белая его борода была мокрой, липла к груди. Наверно, рыбалка не задалась или еще чего.
На берегу лежали перевернутые вверх дном лодки-долбленки, весла. На кольях сушились мрежи. Видно было, что касплянцы живут рекой.
Да и в самом воздухе царил дух речной, дух тины, да рыбы, да сладкой воли…
Ладья огибала холм с церковью, глубже входя в селение.
Снова горел костер на берегу, и два парня в большом котле варили что-то… По запаху вскоре и ясно стало: уху. Они встали и смотрели на ладью, кивали гребцам.
Дальше у самой воды паслась лошадь с жеребенком.
Ладья обогнула холм с церковью, и тут все увидели, что река-то выходит из озера. Озеро загибалось за сосновую гору справа. Оттуда набегал ветер, шевелил волосы гребцов.
Нечай велел причаливать к левому берегу, если смотреть против течения. Там был удобный заливчик. На воде покачивалась длинная лодка-однодеревка, привязанная к столбу. Еще три лежали на берегу, перевернутые кверху дном. А подальше была видна и новенькая ладья. И возле нее дымилась смолокурня. И мужик с мальчиком смолили ту ладью, ловко орудуя палками, обвернутыми тряпками. Заметив появление ладьи, смолокуры оставили работу, стояли и глазели. Тропинка уходила вверх, к деревянной башенке. Еще дальше стоял большой дом, крытый соломой.
Наконец чернобородый мужик в расстегнутой рубахе на волосатой груди что-то сказал мальчику, тот быстро взбежал по тропинке и вскоре появился снова. Теперь его сопровождал кривоногий мужик с копьецом, в калантыре[89] и высокой войлочной шапке. Возле него крутилась кудлатая собачка. Она то взлаивала на пришельцев, то умолкала и заглядывала в лицо хозяину.
Гребцы скинули сходни, и первым на берег сошел Нечай, за ним двое гребцов, потом Василь Настасьич и остальные. Поздоровались с протозанщиком. Спросили, где тиун Зуй Жирославич. Али уже кто иной? Нет, отвечал протозанщик, откашливаясь. И Нечай с Василем Настасьичем поднимались по тропинке и вместе с протозанщиком шли к большому дому под лай собаки. А мальчишка-смолокур медленно сходил по тропинке, разглядывая гребцов, ладью. Гребцы с хрустом потягивались, взмахивали руками, крутили головами, разминая затекшие шеи, переговаривались.
– Ну, якая у вас тута жисть, в Каспле-то? – спрашивал чернобородый крутоплечий большеносый Милятич.
– Знамо дело, – отвечал мальчик, стараясь придать голосу уверенность.
Милятич усмехался.
– Што знамо-то?
– Да того, – отвечал мальчишка, оглядываясь на мужика у новенькой ладьи.
– Рыбка есть, зверь водится? Жито родится?
Мальчишка кивал.
– Знамо дело…
Гребцы смеялись.
– Где порты-то утерял, чудо? – вопрошал Иголка. – Али сел на смолу да приклеился?
Мальчишка больше ничего не говорил, а боком, боком уходил к смолокурне и новой, перевернутой вверх дном ладье.
Нечай с купцом отсутствовали некоторое время. Наконец появился один Нечай. Сычонок исподлобья следил за ним. И тут Нечай отыскал его глазами и махнул рукой.
– Карась Немко! Давай, на спрос к Зую Жирославичу. Живо!
И Сычонок поглядел на Зиму. Тот кивнул ему.
– Иди, отсюдова и домой вернешься.
А уж Сычонок и не хотел домой-то возвращаться. По нраву ему пришлась эта жизнь на реке. Да и тайный умысел у него появился. Захотелось ему искусити[90] судьбу. Он крепко запомнил сказанное Страшко Ощерой о том волхве, что живет меж двух гор. И ведь судьба-то и повернула вдруг реку вспять – ну, не реку эту или ту, а направление: пошел он в обратную сторону – и уже дальше, к Смоленску. А Хорт – тот за Смоленском и живет.
Что-то будет?..
И он поднялся по тропинке, прошел мимо протозанщика, вошел в избу. Там было сумеречно, после яркого солнечного дня – почти темно. Только окошки слюдяные и светлели. Мальчик моргал, озирался. Слева белела печь. Вдоль стен тянулись полати. Посредине стоял большой стол. На нем крынки, плошки. За столом и сидели Василь Настасьич и, как видно, Зуй Жирославич.
Нечай дал мальчику легкого подзатыльника, принуждая подойти ближе. Мальчику так обидно стало, что он чуть не вцепился зубами ему в руку. Но удержался. Кто знает, как оно все повернется. Может, с Нечаем и остальными все же удастся ему и дальше пойти. Желание-то у него уже твердым стало: обрести речь.
И он приблизился к столу. Тут он уже получше разглядел Зуя Жирославича. Это был плотный мужик с серебристой головой, серебристой же небольшой остриженной бородкой, острыми скулами и узкими глазами. На нем был потрепанный опашень[91] неопределенного цвета. Шапка из тонкого сукна была сдвинута на затылок. Василь Настасьич пил что-то из деревянной кружки и глядел на мальчика.
– Выходит, ты немко, – проговорил Зуй медленно, рассматривая мальчика. – Сам с Вержавска?
Мальчик смотрел.
– Осе ответствуй же, – сказал Нечай и схватил цепкими сильными пальцами мальчика за шею. – Убо. – И он наклонил голову ему. – Али убо. – И он покрутил головой мальчика, как будто тот был куклой из потешного зрелища.
Мальчик вырвался от него, сверкая зло глазами.
– Ишь, аспид, – пробормотал Нечай.
– Кто тебе были те плотовщики? – продолжал спрос Зуй Жирославич. – Родичи?
Мальчик кивнул и показал палец, мол, один и был родичем.
– Ага… Один. – Зуй тоже кивнул. – И на вас напали, мужиков прибили?
Мальчик кивал.
– А ты утек?
Мальчик насупился, кивнул.
– А видал ты тех убивцев-то? Сможешь опознати?
Мальчик подумал и отрицательно покрутил головой.
– Погодь, – подал голос Василь Настасьич. – Обаче[92] ты же указывал на тех жильцов из Поречья, что на бреге стояли-то?
Мальчик посмотрел на него.
– В воду от них аки угорелый кинулся, – подтвердил Нечай.
Мальчик смотрел в пол, сопел.
– Вот нелюбие[93]! – воскликнул Зуй Жирославич. – И крамола вновь от Поречья!
– Да долго ли туда на лодке сходить? – спросил Василь Настасьич. – Там прямо и все искусити. И коли жители убивцы, изымати[94].
Зуй Жирославич посмотрел на купца.
– Быстро сказка сказывается, – проговорил он. – А тут на деле намучаешься. Да еще с этим немко. Наказанье господне… В том Поречье одне ушкуйники и живут, хужее сыроядцев клятых! Кажный год, яко льды вскрываются, оне крамолу и куют. Пограбляют купечество али богомольцев чрез нас до Кыёва пробирающихся. Нету силов с имя справиться. Войной, што ль, на их идити?
Зуй Жирославич задумался. Василь Настасьич налил себе в кружку из крынки, выпил, вытер усы.
– Грамоте не разумеешь? – спросил Зуй Жирославич мальчика.
Тот покрутил головой.
– Ах ты… нелюбие так нелюбие…
– Выходит, сперва грамоте обучить его надобно, – с усмешкой молвил Василь Настасьич. – Али такого же немко сыскать, да грамотного. Оне друг дружку враз поймут.
– Небось, есть у них разумеющие такую-то беседу немко, на пальцах. А нам, сирым, оно недоступно. Враз запутаешься в этом необытном[95] деле. Да и все одно тех кощеев придется в Смоленск справлять, – говорил Зуй Жирославич, морщась и узя и без того узкие глаза. – И давно прошаю силы у смольнянских тиунов на тых поречских ушкуйников: дайте дружинников, враз с имя поладить сумею. Не дают… Обещаньями кормят. Известно, от слова до дела сто перегонов… Сулить – дело боярское, исполняти – нашенское. А знаешь что, – сказал он, вскидывая глаза на купца, – повезут робята твой товар прямо сегодня, найдутся коло[96]. До самого Днепра и довезут. Обаче! Ты возьмешь немко с собою и отведешь в граде княжеским тиунам.
Василь Настасьич посмотрел на Сычонка.
– Яко это – с собою?..
– А вона. Забирай, – сказал Зуй Жирославич и махнул рукой на Сычонка. – Пущай тама и попекутся, помозгуют сами. Убо, можа, пошевелятся. Своих умудренных пытателей шлют. А про меня скажи: не застиг, в отъезде Зуй Жирославич бысть.
– И ты поприяти[97] прямо сейчас? – вопросил Василь Настасьич.
– А то якоже[98]. Мое слово! – ответил твердо Зуй Жирославич. – Будет тебе коло. А мужики потянут ладью вверх из озера по речке до самых до верховьев. А тама волоком – и в Днепр. Ежели не желаешь тут ладью-то оставить на сохранение.
– Да не, – отвечал Василь Настасьич. – В Смоленске поторгую, а оттудова на Киев пойдем с другими ладьями. А оттудова хочу и к Царьграду.
– Вона какое у тебя рачение[99]!
– То не рачение, – отвечал Василь Настасьич. – А кобь[100] купецкая.
Зуй Жирославич засмеялся сухо, зло, но и весело.
– Прикобили[101] табе, Василь Настасьич! Вота! Решено?
– Решено, – отвечал купец, взглядывая на мальчика, на Нечая.
Нечай покосился на Сычонка.
– Снова возня с этим телком.
– А ты, малец, – сказал Зуй Жирославич, – князю-то в ноги и пади да все поведай… ну, как сумеешь. Пущай напускает на Поречье дружинников и своих тиунов, правеж им тама чинит. А хоть и вовсе куды переселяет, тама у их тать на тате татем погоняет. Пущай заставят поречских рылом хрен копать.
Василь Настасьич просмеялся, обернулся к Нечаю, оглаживая бороду.
– Нечай, давай-давай, ступай, вели мужикам все выгружать. Будут сейчас коло. А малого мы доставим куды надоть.
И Нечай повернулся, пошел и мальчик. У двери Нечай схватил мальчика за плечо и встряхнул.
– Куды наперед лезешь?
И он дал ему снова затрещину.
Мальчик оглянулся на обидчика.
– Не зырь, а беги, Карась Немко! Вели робятам носить все на землю! – гаркнул Нечай и захохотал своим скрежещущим, каким-то ржавым смехом.
Часть вторая
Смядынь
1
Весенний Смоленск плыл над Днепром в облаке легкой яркой зеленой листвы на горах, в резких криках чаек, горластых петухов, вороньем грае, мычанье коров и собачьем лае. На главной горе высился собор, и его, и холм называли Мономаховым, или Детинцем, а по другим горам и в низинах стояли церкви, деревянные и каменные.
Горами смольняне именовали мысы оврагов, выходивших из глубин города к Днепру. По оврагам стекали ручьи. Был ручей Егорьевский, Пятницкий, Воскресенский ручей еще, были ручьи Зеленый, Ильинский на другом берегу Днепра. Бежали и речки – чистая Рачевка, полная раков, Чуриловка на закат солнца, Городянка на том берегу Днепра. Истобок в граде было видимо-невидимо, всяких, и таких, как в Вержавске, или в Поречье, или в Каспле: низких, крытых соломой, корьем, с бычьими пузырями в крошечных окошках. И больших, со слюдяными окнами. И даже были терема с окнами над окнами, в два яруса.
Смольняне жили повсюду, как и в Вержавске: не только за валами и дубовым тыном, коими было обнесено почти все левобережье с горами, но и вдоль Днепра, и на правом берегу. Здесь как будто было два Вержавска, нет, три или четыре!
У Сычонка глаза разбегались.
А у пристаней стояли большие ладьи с цветными парусами, да на берегах всюду лежали лодки-однодеревки, лодки с надставленными бортами, маленькие плотики. И всюду вились дымы смолокурен. А мужики, по пояс голые, мускулистые, с охваченными ремешками волосами, смолили лодки и ладьи. А иные тут же и рубили топорами лодки из цельных стволов дуба.
Не брехал Ивашка Истома, Ларионов сын. Град бысть велик и мног людьми. А по улицам, на которых лежали деревянные мостки, ходили бабы в цветастых убрусах, шерстяных и суконных понёвах, препоясанных вязаными ремешками, в платках, а иные вельми нарядные, в червленых али зеленых и голубых платьях с широкими рукавами, в накидках, шитых золотом, что ли, в блестках и с такими кольцами и бубенчиками, свешивающимися с коруны, – ну будто все княжны али царевны. И девушки с косами, стеклянными бусами, а иные в ожерельях, как будто птицы какие заморские. Или шла даже старуха в такой кике[102] – ну, прямо башня. Только та башня была изукрашена жемчугами и бисером. Таких изрядных женщин не было в Вержавске. Ну разве что жена посадника Улеба Прокопьевича да его дочки. А тут – все как будто жёнки посадниковские. Ну и кудесы. Конечно, и мужики там ходили в войлочных и суконных шапках, треухах, в портах, заправленных в кожаные сапоги, и в серых рубахах, в суконных зипунах, в однорядках, а то и в охабенях с пуговицами, как тиун Зуй Жирославич в Каспле. И среди них мальчишки, юркие, востроглазые, в пошевнях[103], иные, правда, в онучах и лаптях, а то и босые вовсе, но эти, видать, приперлись откуда-то из лесов.
А Спиридон хоть и не из леса, из города Вержавска, а босой. И ведь как на грех с цветением черемух-то установились холодные деньки, серые, прозрачные.
Как купец Василь Настасьич и его люди добрались до Смоленска, так про Спиридона из Вержавска и забыли. Иди куды хочешь. Все глядят на град с церквами, на баб. У купца свои заботы: сговориться с другими купцами, чтобы вместе идти вниз до Киева, так-то безопаснее, чем на одной ладье-то. И полоцкий товар распродать, а смоленского прикупить. А тут еще стало известно, что зря они сюда-то сразу поднялись, все купцы причаливали ниже, у Смядынской пристани. Так что надо чуть ниже спуститься на ладье. Нечай, ладейщик главный, про то ведал, но уж сильно всем хотелось ближе к городу подойти и все рассмотреть с ладьи.
И мальчик эту свободу сразу почуял. Ободрился, но скоро и сник. Вот он, град громадный, что же он ему скажет? Где путь к тем горам Арефиным?
Тут Спиридон опомнился.
Да вот же – Днепр, большая, сильная река с чайками и отражениями церквей. На этой-то дороге не заблудишься. Надо только отыскать лодочников, плывущих вверх.
Но пока мальчик, завороженный, ходил по-над Днепром, у валов и дубового тына. Глазел. Увидел, что люд спокойно во врата сразу от Днепра проходит, и тоже пошел. Но, приблизясь к протозанщикам в кольчугах и шишаках, с мечами и копьями, сробел. Да и не протозанщики то уже были, а настоящие вои.
Мальчик остановился, переминаясь. Черноусый стражник на него покосился.
– С откудова такой притопал-то? – спросил зычно.
«С Вержавска», – хотел сказать Сычонок, да разве скажет.
И он только смотрел на стражника.
– Чего пялишься? Али язык проглотил, чудило?
Спиридон молчал.
– Да ён змерз босый-то, – подал голос другой воин, с небольшой бородкой, светлыми бровями и длинным носом.
– Так думаешь, там согреешься? Оно что там, что тута: холода черемуховые… Ну, не топчися, проходи, чумазый, в наш Цареград смоленской.
Второй стражник рассмеялся. И мужики, что шли с мешками за спиной, тоже засмеялись.
– И коли не перевертень! – воскликнул другой стражник.
Сычонок думал, сейчас его и схватят. Но никто и не думал его трогать. И он прошел в город. И сразу направился к горе с большой церковью – то был собор Успения Богородицы. Ему об этом еще Ивашка Истома поведал.
Собор был весь из камня. А луковка золотая. И крест золотой. Только не сверкали, ибо день был хоть и ясный, но не солнечный. Сычонок хотел подняться на ту гору, но вдруг передумал и пошел налево, к ручью. Сел на берегу и начал умываться. С чего-то ведь тот вой его чумазым-то обозвал. Умылся хорошенько, рукавом утерся. Поглядел на ноги. И принялся ноги мыть, хоть и так озяб-то. Да что поделаешь. Тер скору[104] песком. Все равно чуть прошел по дороге, снова ноги черными стали.
Хотел опять на гору к собору подняться, но тут его привлек густой дым с искрами из-за кустов, звонкий перестук. Пошел туда, глянул: во дворе кузня. Печь с мехом, наковальня. Мехами управляет коренастый отрок. А с молотом простоволосый курчавый мужик в портах, рубахе и кожаном фартуке. Ударяет гулко-звонко по огненной железке, только концы его черных длинных усов болтаются. А у отрока все лицо как у черта перепачкано. Вот он случайно оглянулся, заметил Сычонка, отвернулся. Снова мехи качает рычагом. Опять оглянулся. Серые глаза так и сверкают. Сычонок смотрит, с ноги на ногу переступает.
– Ну, чего вылупился?! – баском крикнул отрок.
Ковач обернулся к нему. Тот кивнул на мальчишку. Ковач поглядел.
– Да ён шибко зяблый, – вдруг послышался женский голос.
Мимо шла низкорослая баба в старом рваном убрусе, с ведрами, полными воды.
– Возьмите погреться-то, – снова подала голос та баба, проходя дальше по тропинке.
Отрок с перепачканным лицом равнодушно отвернулся. Ковач взмахнул молотом.
Дзыньк!
Опять взмахнул.
– Иди сюды, малый! – скрипуче сказал и снова ударил.
Дзыньк!
Тогда Сычонок и вправду прошел во двор, остановился. Ковач и его подмастерье поглядели на посиневшие его ноги да и на лицо, тоже синеватое. И отрок кивнул, мол, иди ближе. И Сычонок подошел к горнилу, протянул руки, щурясь на рдяное нутро. Оттуда пышело жаром. И волна озноба сотрясла все его тело. Потом другая. Он тянул руки, растопыривал пальцы, ловил животом, грудью жар Смоленска. И только теперь вдруг понимал: Смоленск, то и есть Смоленск вокруг, град великий днепровский. Его они с Ивашкой Истомой тщились узреть с колокольни Вержавска.
И вдруг он сам прямо здесь и оказался.
Но один как перст, без батьки Возгоря… И ужас той ночи на Каспле внезапно оковал его цепко и колюче.
Дзыньк!
Сычонку поблазнилось, что он сейчас же мигом рассыплется. Еще удар – и свершится.
Дзыньк!
И ничего не произошло.
Он обмяк, чувствуя всем телом густое рдяное тепло. Оно вливалось в него, как новая горячая кровь. И его щеки уже пылали, глаза блестели.
Мягкая волна застилала глаза, томила сердце, Сычонка клонило в сон. Он опустился на корточки. Парень глядел на него насмешливо. Спросил, кто он таков и откуда? Сычонок туманно смотрел на него.
– Дать по башке, чтоб забаил? – спросил парень с шутейной угрозой.
Неожиданно забрехали собаки. А на Сычонка почему-то не залаяли, когда он здесь появился. Видно, мягко ступал, али ветер запах сносил…
Послышались голоса.
И окрик:
– Эй, Треня Ус! Слыш-ко!
На двор входили двое, оба в зипунах, заломленных шапках, опоясанные ремнями с кинжалами, в сапогах, брадатые, похожие друг на друга, только один потемнее, другой – рыжеватый. Ковач прекратил свою работу и выжидательно смотрел.
Оба мужика в зипунах остановились посреди двора.
– Ну?
– Ага…
Это они промолвили и выжидательно, с вызовом и насмешкой, уставились на ковача. Тот погладил свои длинные усы, глядя исподлобья.
– Лепота-а-а[105]… – молвил рыжеватый.
Грудь ковача вздынулась и опустилась.
– А бо[106] ты, Треня Ус, и не желаешь докончания[107]? – спросил другой, тот, что потемнее. – Ковы[108] разводишь? Куешь, неключимый[109] ты поганец, крамолу?
– В коросту[110], что ль, тебя закатывать? – подхватил другой. – Вместе с молотом и мехами, ась? – С этими словами он шагнул к продолжавшему качать меха рычагом парню и дал такую затрещину, что тот чуть с ног не свалился.
Ковач с молотом шагнул было к нему навстречу, но его остановил окрик второго:
– Треня Ус! А ну не леть!.. Не кобенься, закоснелый[111]. Али забыл, что князь велел всем ковачам града переносить свои кузни на окраины, к речкам и ручьям?
Ковач Треня Ус утер потное лицо и указал на кусты, за которыми и бежал ручей чистый.
– Так вон и Егорьев ручей.
– Аще[112] окраина? – спросил рыжеватый, кивая на близкий холм с собором. – Кругом истобки все да из дерева, али не чуешь? Забыл пожар велий прошлой зимы? Снова петуха запустить по истобкам?
– Да переезд мне труден, – заговорил хрипло-скрипуче ковач. – Кто тама на краю подвинется? Места даст? Иде? На Крылошанском конце, на Рачевке? Тама не провернешься, все позанято. Али на Пятницком конце? Тама торг. На Смядыни? Тама пристань, смолокурни, плотники ладьи рубят. Монастырь. Две церквы. Ну куды мне?
– А хоть за Днепр, на Ильинский конец! – отрезал темный слуга князев.
– Эва куды! – воскликнул ковач. – Кто ж зачнет ко мне ходить? Это ж и мне уплати, и лодочнику уплати. Как кормыхатися[113] буду?
– А то не наша боль, – сказал рыжеватый. – А наше табе последнее казание[114]. Не тяни, Треня Ус! Гляди! В другой раз все поломам, порвем твои меха, побьем горн, а самого под плети потащим на правеж. И твоего подмастерья… – Рыжеватый грозно глянул на парня с перепачканным лицом, а потом обратил внимание и на Сычонка. – А што у тебя за лишеник?
– Не вем[115], греется малый, – отвечал неохотно ковач.
– А ну поди сюды, – позвал рыжеватый, поглаживая усы и подбоченясь другой рукой.
Сычонок оторвался от тепла и осторожно приблизился к нему, взглянул сине исподлобья.
– Ишь, морские глазы, – усмехнулся князев слуга. – Ну, толкуй, кто таков будешь? Чей? Откудова?
Сычонок молча глядел на него снизу.
– Чего в рот воды набрал?
– Да он все помалкивает, – сказал ковач Треня Ус.
– Кто таков, говорю? – повторил рыжеватый. – Иде матка, батька? Али ничейный?
Сычонок молчал. Рыжеватый оглянулся на товарища. Тот махнул рукой. Но рыжеватый не отступал.
– А я счас язычок-то тебе да развяжу, коли узелком он у тебя закручен. – И он поднес к лицу мальчика кулачище, заросший рыжими волосами. – Будешь баить?
И Сычонок быстро кивнул.
– Ну?
Тогда мальчик притронулся пальцами к губам и покрутил головой, развел руками. Рыжий, и темный, и ковач с пареньком пытливо глядели на него.
Рыжий засопел, свирепея.
– Да ён безгласный, Ефим, – остудил гнев друга темный. – Так ли? – обратился он к мальчику.
И тот кивнул.
– Язык урезан? – спросил рыжий. – Кощунствовал? А?.. Ну, покажь.
И мальчик высунул язык.
– А-а-а… Ишшо все у тебя впереди, – ухмыльнулся рыжий.
– Да как же будет извергать хулу, ежели баить не умеет? – возразил второй.
– Письму обучится.
– Ну, тогда ему глазы-васильки сорвать придется, аки цветочки… А ты грамоте не разумеешь? – спросил темный.
Мальчик отрицательно покрутил головой.
– Мамка, батька у тебя есть? – продолжил расспрос темный.
Как мог Сычонок на такой вопрос ответить? Он и отвечал невнятно: и да, и нет. Темный махнул снова рукой.
– Ай, мученье одно. Давай-ка дуй отсюдова, чтобы и духу твово не было! Ну, кыш! Пшел!
А рыжий хотел ему влепить затрещину, но мальчик увернулся и побежал.
– Только пятки сверкают, – сказал темный.
– Да они у него, как копыта у черта, – отвечал рыжий.
И оба загрохотали смехом, как два немазаных колеса тележных по булыжной мостовой.
И тут уже собаки всей улочки бросились с лаем за беглецом. Они догоняли мальчика, норовя ухватить и за пятки, и за лодыжки, и за руки. Сычонок добежал до большого дерева, хотел на него взобраться, да нижние ветви все были обломаны, он только ободрал себе грудь да порвал рубаху, пытаясь допрыгнуть до нижней ветви. И не смог. А собаки, хрипя и визжа, окружили его, наскакивая. Он обернулся, прижался спиной к морщинистой коре дерева, ища глазами палку или камень… Ничего не было рядом! От отчаяния он взял и засвистел по-своему: округло и таинственно, будто лесной дух, застигнутый врасплох в городе. Все собаки онемели, замерли. Видать, им еще не доводилось слышать так рядом лесной этот посвист… Но пауза длилась мгновенье. И тишина лопнула яростным лаем, визгом, завыванием, хрипом. Свора уже нешуточно набросилась на странного пришлеца.
Да тут в самую гущу лохматых тел врезался камень, и собаки взвизгнули жалобно. А следом полетел еще один камень, да покрупнее, хороший булыжник. Псы, скуля и визжа, откатились от дерева с прижавшимся к нему мальчиком, озираясь, соображая, не накинуться ли на обидчика. Но обидчик в черной рясе и черной шапочке на длинных черных волосах сам шел на них, размахивая палкой и что-то крича. И те, огрызаясь, отбежали в сторону.
– Сучье племя! – звонко кричал молодой смуглый монах. – А ну не леть!
Он снова нагнулся, подобрал камень и запустил в свору. Собаки отбежали еще дальше и лаяли издали, не смея уже приближаться. Иные и вовсе трусили прочь. За черной фигурой они признали власть и силу.