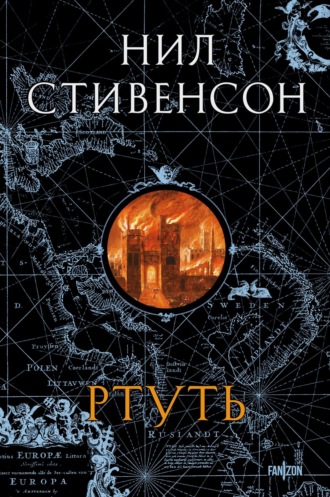
Нил Стивенсон
Ртуть
Несмотря на трудности с доставкой, здесь скопилось немало почты. Значительная часть писем была адресована просто «ГРУБЕНДОЛЮ, Лондон». По наставлению Уилкинса, Даниель собрал письма в общую груду, а те, что предназначались ГРУБЕНДОЛЮ, перевязал бечёвкой и положил отдельно.
Теперь он готов был покинуть Лондон, недоставало лишь денег да чего-нибудь, на чём увезти это добро. Оставив в доме всё (за исключением лягушек, которых не стоило бросать без присмотра), Даниель снова прошёл по Бишопсгейт и свернул на Треднидл. На её пересечении с Корнхилл стояли дома, выходящие на обе улицы. На крышах курили трубки вооружённые мушкетами сторожа; даже неграмотный, взглянув на них, сообразил бы, что здесь обитают золотых дел мастера. Даниель подошёл к дому под вывеской «Братья Хамы». В окошке рядом с дверью были выставлены несколько украшений и парочка золотых блюд: свидетельство, что Хамы по-прежнему заняты златокузнечным делом.
Лицо за решёткой. «Даниель!» Решётка заскрежетала, дверь застонала и залязгала, словно внутри сдвигаются тяжёлые чугунные брусья. Наконец она отворилась.
– Рад тебя видеть.
– Здравствуйте, дядя Томас.
– Вообще-то, сводный зять.
Томас Хам упорно надеялся, что педантизм и повторение каким-то алхимическим образом переплавятся в остроумие. Педантизм, потому что он и впрямь был женат на единокровной сестре Даниеля, повторение, потому что Даниель слышал эту шутку сколько себя помнил. Хаму шёл седьмой десяток, он был одновременно грузен и худосочен. С костлявой арматуры свисало непомерное брюхо, орлиное лицо обрамляли дряблые складки. Ему повезло жениться на красавице Мейфлауэр Уотерхауз, во всяком случае, так его уверяли.
– Я испугался, когда подошёл. Думал, вы кого-то хороните. – Даниель указал на кучи свежей земли рядом с домом.
Хам внимательно оглядел улицу – как будто то, что он делал, можно было скрыть от посторонних глаз и ушей.
– Мы роем крипту иного рода, – сказал он. – Давай, заходи. Почему твоя корзина квакает?
– Я подался в грузчики, – отвечал Даниель. – У вас нет тачки или тележки, которую я мог бы одолжить на несколько дней?
– Есть, очень прочная и тяжёлая – мы возили денежные сундуки на Монетный двор и обратно. С начала чумы она стоит без дела. Бери на здоровье!
В комнате за дверью тоже виднелись жалкие следы розничной ювелирной торговли – конторка и несколько амбарных книг. Лестница вела в жилые помещения на втором этаже – тёмные и притихшие.
– Мейфлауэр и дети здоровы?
– Да, благодарение Богу. Её последнее письмо из Бакингемшира чуть меня не усыпило. Идём вниз!
Дядя Томас провёл его ещё через одну крепостную дверь, подпёртую поленом, чтобы не закрывалась, и по узкой лестнице вглубь. Впервые с сегодняшнего утра Даниель не ощущал вони, только мирный запах растревоженной земли.
Даниель никогда не бывал в этом подвале, но знал про него всегда. Из фигур речи, вернее, из фигур умолчания можно было заключить, что там либо водятся привидения, либо хранится золото. Подвал оказался вовсе не величаво-пугающим, а очень по-английски маленьким и уютным, однако он впрямь был наполнен золотом и в эту самую минуту расширялся. У лестницы, прямо на земляном полу, лежали золотые блюда, чаши, кувшины, кубки, ложки, вилки, ножи, подсвечники черпаки и супницы, а также мешки с монетами, коробочки с медальонами, отлитыми в память тех или иных сражений, золотые бруски и неправильной формы слитки, называемые чушками. На каждом предмете имелась аккуратная бирка: «367–11/32 трой. Унц., помещ. Лордом Рочестером 29 сентября 1662 г.» и так далее. Всё было сложено как булыжная кладка без раствора, то есть максимально плотно, чтобы груда не рассыпалась. Сверху её изрядно припорошило землёй, кирпичной крошкой и раствором от работ, которые велись в дальнем конце погреба: землекоп орудовал киркой и лопатой, его товарищ выносил землю в корзине, плотник сколачивал деревянные крепи, чтобы дом Хама не обрушился в пустоту, каменщик и его подручные клали фундамент и стены. Теперь это был чистый подвал: никаких крыс.
– Боюсь, подсвечники твоей покойной матушки сейчас увидеть нельзя – они довольно глубоко в… э… укладке, – сказал Томас Хам.
– Я здесь не для того, чтобы тревожить укладку, – отвечал Даниель, вынимая отцовскую расписку.
– О! Легко исполнимо! Легко и с большой охотой! – объявил мистер Хам, надевая очки и тряся брылами над распиской – гончая, берущая след. – Карманные деньги для юного учёного … юного богослова, не так ли?
– Говорят, Кембридж откроется не скоро – надо податься куда-нибудь ещё, – ответил Даниель, просто чтобы поддержать разговор. Его заинтересовала небольшая груда чего-то грязного, но не золота. – Что это?
– Остатки римского дома, который здесь когда-то стоял, – ответил мистер Хам. – Те, кто в таких вещах разбирается, – чего я, увы, не могу сказать о себе, – уверяют, что на этом самом месте протекала река Уолбрук. Она впадала в Темзу перед дворцом наместника, примерно в двенадцати сотнях ярдов отсюда. Римские купцы возводили дома на берегу, чтобы доставлять товары по реке.
Даниель носком сапога сковырнул землю с твёрдой поверхности, которую нащупал внизу. Показались крохотные многоугольнички: терракотовые, синие, бежевые, желтовато-белые. Перед ним был кусочек мозаичного пола. Даниель сгрёб ещё немного земли и увидел изображение ноги, согнутой в колене, с носком, оттянутым как при беге. Щиколотку украшали два крылышка.
– Да, римский пол мы сохраним, – сказал мистер Хам, – в качестве преграды от умельцев с лопатами. Джонас, где у нас всякие мелочи?
Землекоп ногой толкнул к ним ящик, полный грязного хлама. Здесь были два костяных гребня, глиняный светильник, металлическая пряжка, из которой давно вывалились драгоценные камни, обливные черепки, а также что-то длинное и тонкое – шпилька для волос, заключил Даниель, счистив с неё грязь. Металл почернел, но это было серебро.
– Забирай, – сказал Хам, имея в виду не только шпильку, но и вполне приличную серебряную монету в один фунт, которую только что выудил из кармана. – Может, будущей миссис Уотерхауз приятно будет закалывать волосы вещицей, которой украшала причёску жена римского купца.
– Нам в Тринити-колледже не разрешено жениться, – напомнил Даниель, – но ваш подарок я всё-таки приму. Вдруг у меня будет пышноволосая племянница, которую не испугает чуточка язычества.
Ибо он уже успел заметить, что шпилька имеет форму кадуцея.
– Язычества? Коли так, все мы язычники. Это символ Меркурия – покровителя торговли, которому уже тысячу лет поклоняются в этом подвале и в этом городе не только дельцы, но и епископы. Культ его приноравливается к любой религии с той же лёгкостью, с какой ртуть принимает форму любого сосуда. Когда-нибудь, Даниель, ты встретишь молодую особу, которая будет столь же податлива и уживчива. Бери.
Он вложил монету в ладонь Даниеля рядом с кадуцеем и сжал ему пальцы. Чувствуя холодок металла в кулаке и тепло родственных рук снаружи, Даниель выслушал прощальные напутствия дяди.
Даниель, толкая тачку, двинулся по Чипсайду на запад. Он задержал дыхание, проходя мимо смрадных могильных холмов у церкви Святого Павла, и вздохнул свободно, только миновав Ладгейт. Идти над Флитской канавкой было ещё хуже; всюду валялись дохлые крысы, собаки, кошки; нередко попадались и человеческие трупы, которые выронили с телег и не удосужились даже присыпать землёй. Он не отнимал платок от лица, пока не прошёл Темпл-бар и караульню на середине Стрэнда, у Сомерсет-хауса. Здесь уже между домами проглядывали поля; после городской вони запах навоза радовал ноздри.
Даниель боялся, что тачка увязнет в грязи на Чаринг-Кросс, но дождей давно не было, кареты почти не ездили, и обычное месиво высохло. Пять бродячих псов смотрели, как он пробирается с тачкой по колдобинам. Даниель поглядывал с опаской, ожидая нападения, пока не заметил, что для бездомных псов они чересчур упитанны.
Ольденбург жил в особняке на Пэлл-Мэлл. Из всех членов Королевского общества только он да ещё один-два самоотверженных врача не покинули чумной Лондон. Даниель вытащил письма, адресованные ГРУБЕНДОЛЮ, и оставил их на пороге – послания из Вены, Флоренции, Парижа, Амстердама, Берлина, Москвы.
Он трижды постучал в дверь и отступил назад. За зелёными стёклышками окна, как за пеленой слёз, показалось круглое лицо. У Ольденбурга недавно умерла жена (не от чумы); поговаривали, будто он остался в Лондоне в надежде, что Чёрная смерть воссоединит его с умершей супругой.
Путь до Эпсома предстоял неблизкий, и у Даниеля было вдоволь времени сообразить, что ГРУБЕНДОЛЬ – анаграмма фамилии Ольденбург.
Эпсом
Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять определения прежних авторов и либо исправлять их, если они небрежно сформулированы, либо формулировать самому заново. Ибо ошибки, сделанные в определениях, увеличиваются сами собой по мере изучения и доводят людей до нелепостей, которые в конце концов они замечают, но не могут избежать без возвращения к исходному пункту, где лежит источник их ошибок.
Гоббс, «Левиафан»
1665–1666
Поместье Джона Комстока располагалось в Эпсоме, неподалёку от Лондона, и поражало своей обширностью, которая во время чумы пришлась как нельзя кстати. Его милость смог разместить у себя несколько членов Королевского общества (чем ещё увеличил свой и без того немалый престиж), не приближая их чрезмерно к собственной особе (что причиняло бы неудобства домашним и подвергало риску животных). Всё это Даниель понял, как только слуга Комстока встретил его у ворот и направил в сторону от усадьбы, через буферную зону садов и пастбищ, к уединённому коттеджу, который выглядел одновременно запущенным и перенаселённым.
По одну сторону простирался огромный скотомогильник, белевший костями собак, кошек, свиней, лошадей и крыс. По другую – пруд, усеянный сломанными моделями кораблей с необычайной оснасткой. Над колодцем висела сложная система блоков; верёвка тянулась от неё через луг к недостроенной повозке. На крыше расположились ветряные мельницы самых невероятных конструкций; одна помещалась над трубой и вращалась от дыма. С каждого сука в окрестности свешивались маятники; верёвки запутались на ветру, образовав рваную философскую паутину. На траве перед домом валялись всевозможные шестерни и колёса, недоделанные или сломанные. Имелось и огромное колесо, в котором человек мог катиться, переступая ногами.
Ко всем стенам и мало-мальски толстым деревьям были приставлены лестницы. На одной из них стоял грузный светловолосый господин, явно на склоне лет и явно не торопящийся угасать. Господин карабкался по лестнице, держась за неё одной рукой, в скользких кожаных башмаках, для таких занятий отнюдь не приспособленных; всякий раз, когда он ставил ногу на следующую перекладину, лестница отъезжала назад. Даниель кинулся вперёд, схватил лестницу и с опаскою поднял взгляд на колышущиеся телеса преподобного Уилкинса. В свободной руке преподобный держал некий крылатый предмет.
Кстати, о крылатых предметах и существах. Даниель почувствовал, что руки ему что-то щекочет, и, опустив глаза, увидел на каждой по пятку пчёл. В эмпирическом ужасе он наблюдал, как одна из них вонзила жало в кожу между большим и указательным пальцами. Даниель закусил губу и посмотрел вверх, пытаясь определить, причинит ли Уилкинсу немедленную смерть, если отпустит лестницу. Ответ был: да. Пчелы уже вились роем, тыкались Даниелю в волосы, проносились между перекладинами лестницы, облаком гудели вокруг Уилкинса.
Достигнув наивысшей точки – и явно испытывая Божье милосердие, – тот выпустил из руки игрушку. Она защёлкала, зажужжала – видимо, внутри раскручивалась часовая пружина, – и если не полетела, то, во всяком случае, и не упала сразу, а вступила в некое взаимодействие с воздухом. Впрочем, длилось это недолго – раза два дёрнувшись, механическая птица пошла вниз, врезалась в стену дома и рассыпалась на составные части.
– До Луны на такой не долетишь, – посетовал Уилкинс.
– Мне казалось, на Луну вы собирались лететь из пушки.
Уилкинс похлопал себя по брюху.
– Как видите, во мне слишком много инерции, чтобы мной можно было куда-либо из чего-либо дострелить. Покуда я не спустился… как вы себя чувствуете, юноша? В жар-холод не бросает? Нигде не вспухло?
– Предвосхищая ваш интерес, доктор Уилкинс, мы с лягушками две ночи провели в эпсомской гостинице. Я чувствую себя как нельзя лучше.
– Превосходно! Мистер Гук истребил всю живность в округе – если бы вы не принесли лягушек, то сами бы стали жертвой вивисекции.
Уилкинс принялся спускаться, то и дело промахиваясь ногой мимо перекладин, тучный зад угрожающе навис над Даниелем. Достигнув наконец твёрдой земли, доктор бестрепетной рукой отмахнулся от пчёл. Стряхнув несколько летуний с ладоней, натурфилософы обменялись долгим и тёплым рукопожатием. Пчёлы, утратив к ним интерес, унеслись в сторону стеклянного домика.
– Это сделал Рен, идёмте покажу! – воскликнул Уилкинс, вперевалку направляясь за пчёлами.
Стеклянная конструкция представляла собой модель дома, с выдутым куполом и хрустальными колоннами. Готическая по архитектуре, она походила на какое-нибудь правительственное здание в Лондоне или на университетский колледж. Двери и окна служили лётками. Внутри пчёлы соорудили улей – целый собор сотов.
– При всем уважении к мистеру Рену, я вижу тут смешение архитектурных стилей…
– Что? Где? – вскричал Уилкинс, выискивая в очертаниях свода следы эклектики. – Я его выпорю!
– Виновен не зодчий, а квартиранты. Разве эти крохотные восковые шестиугольники сообразны замыслу архитектора?
– А вам какой из стилей более по душе? – осведомился Уилкинс.
– Э… – протянул Даниель, чувствуя подвох.
– Прежде, нежели вы ответите, позвольте предупредить, что к нам приближается мистер Гук, – шепнул преподобный, кося глазом в сторону.
Даниель обернулся и увидел, как со стороны дома к ним идёт Гук, скрюченный, седой и прозрачный, как загадочные химеры, что иногда мелькают на краю зрения.
– Ему плохо? – спросил Даниель.
– Обычный приступ меланхолии. Некоторая сварливость, вызванная нехваткой доступных представительниц прекрасного пола.
– Вообще-то, я хотел спросить, здоров ли он.
Гук, привлечённый кваканьем, метнулся вперёд, схватил корзину и был таков.
– О, Гук вечно выглядит так, будто он последние несколько часов умирал от потери крови, – сказал Уилкинс.
У него самого всегда был такой понимающий, чуть насмешливый вид, за который ему сходило с рук почти любое высказывание. Вкупе с гениальными тактическими ходами (такими как женитьба на сестре Кромвеля во времена Междуцарствия) это позволяло ему играючи преодолевать житейские бури гражданских войн и революций. Он согнулся перед стеклянным пчельником, преувеличенно кривясь от радикулита, и вытащил склянку, в которой набралось почти на два пальца мутновато-бурого мёда.
– Как видите, мистер Рен предусмотрел канализацию, – объявил преподобный, вручая тёплую склянку Даниелю, после чего направился к дому, Даниель – за ним.
– Вы сказали, что два дня провели в добровольном карантине, – значит, вы платили за гостиницу, и, следовательно, у вас есть карманные деньги, то есть Дрейк их вам дал. Что вы сообщили ему о цели своего путешествия? Мне надо знать, – извиняющимся тоном добавил Уилкинс, – дабы при случае отписать ему в письме, что вы этим самым тут и занимаетесь.
– Я должен быть в курсе всего самого нового, с Континента или ещё откуда, дабы своевременно извещать его обо всех событиях, имеющих отношение к концу света.
Уилкинс погладил невидимую бороду и важно кивнул, потом отступил в сторонку, чтобы Даниель распахнул перед ним дверь. Они оказались в гостиной, где догорал огромный камин. Двумя-тремя комнатами дальше Гук распинал лягушку на дощечке и время от времени чертыхался, заехав себе по пальцам молотком.
– Может быть, вы сумеете помочь мне с моей книгой.
– Новым изданием «Криптономикона»?
– Типун вам на язык! Я давно забыл это старьё! Написал его четверть века назад. Вспомните, что было за время!.. Король сбрендил, собственные стражники запирали от него арсенал, в парламенте чинили расправу над министрами. Враги короля перехватывали письма, которые его жена-папистка писала за границу, призывая иноземные державы вторгнуться в наши пределы. Хью Питерс вернулся из Салема распалять пуритан, что было несложно, поскольку король, исчерпав казну, захватил всё купеческое золото в Тауэре. Шотландские ковенантеры в Ньюкасле, католический мятеж в Ольстере, внезапные стычки на улицах Лондона – джентльмены хватались за шпаги по поводу и без повода. В Европе не лучше: шёл двадцать пятый год Тридцатилетней войны, волки пожирали детей – только подумать! – на Безансонской дороге, Испания и Португалия раскололись на два королевства, голландцы под шумок прибрали к рукам Малакку… Разумеется, я написал «Криптономикон»! И, разумеется, люди его покупали! Но если то была омега – способ сокрыть знание, обратить свет во тьму, то всеобщий алфавит – альфа. Начало. Рассвет. Свеча во тьме. Я вас заболтал?
– Это что-то похожее на замысел Коменского?
Уилкинс подался вперёд, словно хотел отхлестать Даниеля по щекам.
– Это и есть замысел Коменского! То, что мы с ним и немцами – Хартлибом, Гаком, Киннером, Ольденбургом – хотели сделать, когда создавали Невидимую коллегию*[17], давно, в доисторические времена. Однако труды господина Коменского, как вы знаете, сгорели при пожаре в Моравии.
– Случайно или…
– Отличный вопрос, юноша, – когда речь о Моравии, ничего нельзя знать наверняка. Если бы в сорок первом Коменский послушал меня и согласился возглавить Гарвард…
– Колонисты опередили бы нас на двадцать пять лет!
– Совершенно справедливо. Вместо этого натурфилософия процветает в Оксфорде, отчасти в Кембридже, а Гарвард – убогая дыра.
– А почему он не послушал вашего совета?
– Трагедия центральноевропейских учёных в том, что они вечно пытаются применить философскую хватку к политике.
– В то время как Королевское общество?..
– Строго аполитично. – Уилкинс театрально подмигнул. – Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса.
– Какие же именно?
– Латынь.
– Латынь?! Но она…
– Да, она универсальный язык учёных, богословов и прочая, и прочая. А как звучна! Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придёт в восторг или, по крайней мере, сконфузится. Вот так римским папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию – они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявятся противоречия и размытость.
– М-м-м… я бы сказал даже, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, нельзя было бы, не преступая законов грамматики, выразить ложное утверждение.
– Вы только что сформулировали самое краткое из его определений, – весело произнёс Уилкинс. – Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?
– Нет, – торопливо отвечал Даниель, со страху не различивший юмора. – Я лишь рассуждал по аналогии с Декартовым анализом, в котором, при чёткой терминологии, любое ложное высказывание будет неправомерным.
– При чёткой терминологии! Вот она, загвоздка! – сказал Уилкинс. – Чтобы записать термины, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит – на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли.
– Я к вашим услугам, сэр, – промолвил Даниель. – Когда можно приступать?
– Прямо сейчас! Пока Гук не покончил с лягушками – если он придёт и застанет вас без дела, то закабалит, как чёрного невольника. Будете разгребать требуху или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая… колебания… с утра… до самого… вечера.
Подошёл Гук. Он был не только горбат, но и кособок. Длинные каштановые волосы висели нечёсаными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову, так что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчёркивала худобу запавших щёк, отчего серые глаза казались ещё больше. Гук сказал:
– Лягушки тоже.
– Меня уже ничто не удивляет, мистер Гук.
– Я заключаю, что из них состоят все живые существа.
– А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать? Мистер Гук? Мистер Гук?
Однако Гук уже ушёл на конюшню, ставить какой-то новый эксперимент.
– Из чего состоят??? – спросил Даниель.
– В последнее время, всякий раз, глядя на что-либо через свой микроскоп, мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена – из кирпичей, – сообщил Уилкинс.
– И на что же походят эти кирпичи?
– Он не зовёт их кирпичами. Не забывайте, они полые. Он решил назвать их клетками… Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идёмте со мной, любезный Даниель. Выбросьте клетки из головы. Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что всё на Земле и на Небе можно разделить на сорок различных родов… в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории.
Уилкинс провёл его в помещение для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкинс двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниель поймал один и прочёл:
– «Петушье просо, листовник сколопендровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слёзки, заразиха, петров крест, ложечница лекарственная, цикламен, камнеломка, заячья капуста, подмаренник, плаун вонючий, цикорий, осот, одуванчик, пастушья сумка, икотник, вербейник, вика».
Уилкинс нетерпеливо кивал:
– Коробочкообразующие травы, не колокольчатые, и ягодоносные вечнозелёные кустарники. Каким-то образом они затесались среди желуденосных и орехоносных деревьев.
– Так философский язык – своего рода ботанический…
– Гляньте на меня – я содрогаюсь! Содрогаюсь от одной мысли. Даниель, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. Здесь – классификация хворей: от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до ипохондрической болезни, заворота кишок и удушья.
– Удушье – хворь?
– Превосходный вопрос. За дело – и разрешите его! – прогремел Уилкинс.
Даниель тем временем поднял с пола ещё листок.
– «Палка, женило, ствол…»
– Синонимы слов «срамной уд», – нетерпеливо произнёс Уилкинс.
– «Побирушка, голоштанник, христарадник…»
– Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро, Даниель, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?
– Я бы сказал, да, но…
– С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс?
– Я… я не знаю, доктор!
– Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.
– Который Завета? Или…
– Другой.
– А он здесь при чём?
– Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При том птичьи термины не должны походить на рыбьи.
– Замысел представляется мне… э… дерзким.
– Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Моё – наше – дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери – так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый – двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые континентальные учёные, склонные к афеизму, могут злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.
– Рискну даже предположить, что некие иезуиты направят их против вас – как свидетельство ваших будто бы афеистических воззрений, доктор Уилкинс.
– Истинные слова, Даниель! Посему совершенно необходимо приложить, отдельной главою, полный план Ноева Ковчега и показать не только, где размещалось каждое животное, но и где хранился фураж для травоядных, где стоял скот для хищников и где хранился фураж, которым кормили жвачных, пока их не съедят хищники.
– Ещё нужна была пресная вода, – задумчиво произнёс Даниель.
Уилкинс, который имел обыкновение, говоря, наступать на собеседника, покуда тот не начинал пятиться, схватил кипу бумаг и огрел Даниеля по голове.
– Читайте Библию, неуч! Дождь шёл без остановки!
– Конечно, конечно, они могли пить дождевую воду, – проговорил совершенно раздавленный Даниель.
– Мне пришлось несколько вольно обойтись с мерой «локоть», – заговорщицки поведал Уилкинс, – но, я думаю, Ною должно было хватить восьмисот двадцати пяти овец. Я имею в виду, чтобы кормить хищников.
– Овцы занимали целую палубу?!
– Дело не в пространстве, которое они занимали, а в навозе, который надо было выгребать за борт – представьте, какая это работа! Так или иначе, вы понимаете, что история с Ковчегом надолго застопорила создание философского языка. А вас я попрошу перейти к оскорбительным выражениям.
– Сэр!
– Не задевает ли вас, Даниель, когда ваш брат-лондонец бросается такими словами, как «гнусный подлец», «жалкое ничтожество», «хитрый пройдоха», «праздный бездельник» или «льстивый угодник»?
– Смотря кто кого так обозвал…
– Попробую проще: «развратная шлюха».
– Это тавтология, и потому оскорбляет просвещённый слух.
– «Безмозглый фат».
– Тоже тавтология, как «льстивый угодник» и всё прочее.
– Итак, очевидно, что в философском языке не потребуются отдельные имена прилагательные и существительные для подобных понятий.
– Как вам «грязный неряха»?
– Превосходно! Запишите это, Даниель!
– «Беспутный повеса», «язвительный зубоскал», «вероломный предатель»…
Покуда Даниель продолжал в том же духе, Уилкинс подскочил к конторке, вынул из чернильницы перо, стряхнул избыток чернил и, вложив перо в руку Даниеля, подвёл того к чистому листу.
Итак, за работу. В несколько коротких часов Даниель исчерпал оскорбительные выражения и перешёл к добродетелям (умственным, естественным и христианским), цветам, звукам, вкусам и запахам, занятиям (например, плотничеству, шитью, алхимии) и так далее. Дни проходили за днями. Уилкинсу надоедало, когда Даниель (или кто-нибудь ещё) слишком много работает, поэтому они часто устраивали «семинары» и «симпозиумы» на кухне – варили флип из мёда, которым учёных исправно снабжал готический апиарий Рена. Чарльз Комсток, пятнадцатилетний сын их высокородного хозяина, заходил послушать Уилкинса и Гука. Как правило, он приносил с собой письма Королевскому обществу от Гюйгенса, Левенгука, Сваммердама, Спинозы. Нередко в письмах содержались новые понятия, и Даниелю приходилось втискивать их в таблицы философского языка.
Даниель прилежно составлял перечень предметов, которыми человек может владеть (акведуки, дворцы, тележные оси, дверные петли и так далее), когда Уилкинс срочно позвал его вниз. Даниель спустился на первый этаж и увидел, что преподобный держит в руках внушительного вида письмо, а Чарльз Комсток расчищает стол: скатывает в рулоны чертежи Ковчега и расписания кормлений для восьмисот двадцати пяти овец, освобождая место для более важных занятий. Карл II, милостью Божьей король Англии, прислал им письмо. Его величество заметил, что муравьиные яйца больше самих муравьёв, и любопытствовал, как такое возможно.
Даниель сбегал и разорил муравейник. Он вернулся, победно неся на лопате сердцевину муравьиной кучи. В гостиной Уилкинс диктовал, а Чарльз Комсток записывал письмо королю – не содержательную часть (ответа они пока не знали), а долгие вступительные абзацы обильной лести. «Сияние Вашего ума озаряет чертоги, дотоле… э… прозябавшие в… э…»
– Звучит скорее как намёк на Короля-Солнце, – предупредил Чарльз.
– Так вымарывай! Умён, хвалю. Теперь читай ещё раз, что получилось.
Даниель замер перед лабораторией Гука, собираясь с духом, чтобы постучать. Однако Гук уже услышал шаги и сам распахнул дверь. Он поманил Даниеля внутрь и указал на заляпанный стол, расчищенный для работы. Даниель вошёл, сгрузил муравьиную кучу, поставил лопату и лишь затем отважился вдохнуть. В лаборатории пахло совсем не так дурно, как он опасался.
Гук двумя руками убрал волосы с лица и стянул на затылке бечёвкой. Даниель не переставал удивляться, что тот лишь на десять лет его старше. Гуку стукнуло тридцать несколько недель назад, в июне, примерно тогда же, когда Исаак с Даниелем сбежали из чумного Кембриджа и разъехались по домам.
Сейчас Гук смотрел на кучу копошащейся грязи. Взгляд его всегда был устремлён в одну точку, словно он смотрит на мир через тростинку. На улице или даже в гостиной это казалось странным, но обретало смысл, когда Гук, как сейчас, созерцал крохотный мир на столе. Муравьи бегали туда-сюда, выносили яйца из разрушенного жилища, устанавливали оборонительный периметр. Даниель стоял напротив и смотрел туда же, куда и Гук, однако явно видел не то же самое.
Через две минуты Даниель разглядел всё, что мог, через пять ему стало скучно, через десять он бросил притворяться, будто изучает муравьёв, и принялся расхаживать по лаборатории, глазея на останки всего, что когда-либо побывало под микроскопом: осколки пористого камня, клочки плесневелой сапожной кожи, склянку с этикеткой «моча Уилкинса», осколки окаменелого дерева, бесчисленные пакетики с семенами, насекомых в банках, клочки всевозможных тканей, крохотные горшочки, подписанные «зубы улитки» или «гадючье жало». В углу валялись ржавые ножи, бритвы, иголки. Повод для злой остроты: если дать Гуку бритву, он скорее положит её под микроскоп, чем побреется.
Ожидание затягивалось, и Даниель решил, что может с тем же успехом пополнить своё образование. Он осторожно потянулся к груде колющих и режущих инструментов, вытащил иголку и пошёл к столу, на который падал яркий свет из окна (Гук захватил все южные комнаты, поскольку нуждался в хорошем освещении). Здесь, на подставке, размещалась трубка размером со свёрнутый лист писчей бумаги, с линзой наверху, чтобы смотреть, и другой, совсем маленькой, не больше куриного глаза, внизу, над ярко освещённым предметным столиком. Даниель положил на него иглу и заглянул в окуляр.







