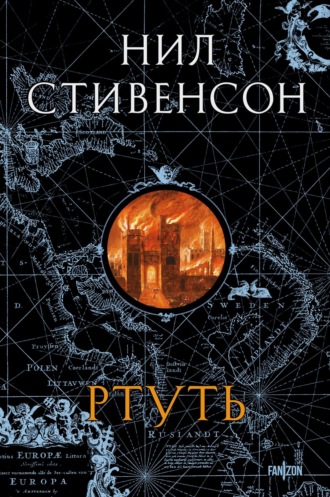
Нил Стивенсон
Ртуть
Слова эти вселили в Даниеля нехорошие предчувствия, которые полностью оправдались. К восходу солнца они уже забрали мертвеца из тюрьмы, доставили в коттедж и отрезали ему голову. Чарльза Комстока подняли с постели и велели ему разрезать покойника, дабы попрактиковаться в анатомии (а заодно избавиться от трупа). Тем временем Уилкинс и Гук присоединили большие мехи к дыхательному горлу мертвеца, чтобы пропускать воздух через связки. Даниелю поручили спилить верхнюю часть черепа и удалить мозг, чтобы он мог взяться рукой за нёбо, язык и прочие мягкие части гортани, ответственные за извлечение звуков. Таким образом, действуя все вместе – Даниель выступал в роли своеобразного марионеточника, Гук манипулировал губами и носом, Уилкинс качал мехи, – они заставили мертвеца заговорить. При определённом расположении губ, языка и прочего он произнёс очень отчётливое «О», от которого Даниелю, уже изрядно уставшему, стало чуточку не по себе. Уилкинс нарисовал О-образную букву по форме губ покойника. Эксперимент продолжался весь день. Когда кто-нибудь проявлял признаки усталости, Уилкинс напоминал, что голова, с таким трудом раздобытая, не вечна – как будто они сами этого не понимали. Им удалось извлечь тридцать четыре звука; для каждого Уилкинс придумал букву, схематически изображавшую положение губ, языка и прочего. Наконец голову отдали Чарльзу Комстоку для дальнейших анатомических штудий, а Даниель лёг спать и увидел серию красочных кошмаров.
Наблюдения за Марсом навели Гука на мысли о небесных делах; по этому поводу они с Даниелем как-то утром выехали в фургоне, прихватив с собой ящик инструментов. Опыт, видимо, был важный, потому что Гук самолично уложил приборы и никого не подпустил к ящику. Уилкинс убеждал их воспользоваться исполинским колесом и не докучать Комстоку просьбой о повозке. Уилкинс уверял, что колесо, приводимое в движение молодым и крепким Даниелем Уотерхаузом, может (в теории) легко пересекать поля, болота и даже неглубокие ручьи, так что они прибудут на место по прямой, а не окольными дорогами. Гук предложение отверг и выбрал фургон.
Они несколько часов добирались до некоего колодца, пробитого в сплошном меловом известняке. Уверяли, что глубина его больше трёхсот футов. При виде Гука местные крестьяне предпочли убраться подобру-поздорову; впрочем, они всё равно ничего полезного не делали, а предавались праздности и пьянству. Гук поручил Даниелю соорудить над колодцем прочную ровную платформу, а сам достал лучшие свои весы и принялся их калибровать. Он объяснил:
– Допустим, гипотезы ради, что планеты удерживаются на орбитах не вихрями эфира, а силою тяготения.
– Да?
– Тогда, прибегнув к математике, мы убедимся, что это возможно лишь в одном случае: если притягательная сила уменьшается с удалением от центра притяжения.
– То есть вес тела уменьшается с подъёмом?
– И увеличивается с опусканием. – Гук выразительно глянул в сторону колодца.
– Ага! Значит, мы должны взвесить что-то на поверхности, а затем… – Даниель в ужасе осёкся.
Гук повернул скрюченную шею и пристально вгляделся в Даниеля. Потом, впервые с начала их знакомства, рассмеялся.
– Вы боитесь, что я предлагаю спустить вас, Даниеля Уотерхауза, на триста футов в колодец, с весами, дабы вы что-то там взвесили? И что верёвка порвётся? – Снова смех. – Подумайте внимательнее о том, что я сказал.
– Да, конечно… так бы всё равно ничего не вышло, – проговорил глубоко сконфуженный Даниель.
– Почему? – сократически вопросил Гук.
– Мы взвешиваем при помощи гирь, и если на дне колодца предметы и впрямь становятся тяжелее, то ровно на столько же потяжелеют гири, и результат будет прежний, а мы ничего не установим.
– Помогите отмерить мне триста футов верёвки, – уже без улыбки распорядился Гук.
Они отмотали пятьдесят локтей, используя в качестве мерила палку длиной в локоть, и Гук привязал на верёвку тяжёлую медную гирю. Потом он водрузил весы на помост, сооружённый Даниелем, положил на одну чашку гирю вместе с верёвкой и тщательно её взвесил. Казалось, он никогда не закончит, тем более что налетающий время от времени ветерок сильно мешал работе. Часа два они убили на то, чтобы соорудить защитную холщовую ширму. Ещё полчаса Гук, глядя на стрелку весов в увеличительное стекло, подкладывал и убирал с чашки кусочки золотой фольги не тяжелее снежинок. Каждый раз стрелка начинала дрожать и успокаивалась только через несколько минут. Наконец Гук получил вес гири в фунтах, унциях, гранах и долях грана, а Даниель всё это записал. Затем Гук закрепил свободный конец верёвки в отверстии, которое заранее просверлил в чашке весов, и они с Даниелем, сменяясь, начали опускать гирю в колодец, на несколько дюймов за раз; если бы гиря качнулась, задела стенку и запачкалась мелом, она бы набрала лишний вес и опыт оказался испорчен. Когда они размотали все триста футов, Гук пошёл прогуляться, потому что гиря слегка покачивалась, а вместе с ней и чашка. Наконец она остановилась, и он снова смог взяться за увеличительное стекло и пинцет.
Короче, в тот день у Даниеля было много времени на раздумья. Клетки, паучьи глаза, единорожьи рога, сжатый и разреженный воздух, необычные средства от глухоты, философские языки и летающие повозки были достаточно любопытны, но в последнее время интересы Гука переключились на дела небесные, и мысли Даниеля всё чаще устремлялись к однокашнику. Как доморощенный натурфилософ при дворе какого-нибудь европейского князька изнывает от желания проведать, что делают Уилкинс и Гук, так и Даниелю хотелось знать, чем занят Исаак в Вулсторпе.
– Вес одинаковый, – провозгласил наконец Гук. – Триста футов глубины не дают измеримой разницы.
Это был сигнал разобрать установку и убраться восвояси, чтобы крестьяне снова могли брать из колодца воду.
– Опыт ничего не доказывает, – сказал Гук, когда они в сумерках ехали домой. – Весы недостаточно точны. Однако если поместить маятниковые часы под стеклянный колпак, чтобы не влияли влажность и атмосферное давление… и на долгое время оставить в колодце… то разница в весе маятника проявит себя ускорением или замедлением хода.
– Но как узнать, что часы спешат или отстают? – спросил Даниель. – Их надо проверять по другим часам.
– Или по вращению Земли, – отвечал Гук.
Вопрос Даниеля почему-то привёл его в мрачное настроение, и больше он ничего не сказал, пока, уже за полночь, они не вернулись в Эпсом.
Ночью температура стала опускаться ниже точки замерзания – пришло время градуировать термометры. Даниель, Чарльз и Гук уже несколько недель изготавливали их из длинных, в ярд, стеклянных трубок, которые заполняли подкрашенным кошенилью спиртом. Однако меток на них не было. В морозные ночи все трое закутывались потеплее, погружали термометры в бак с дистиллированной водой, а потом часами сидели, изредка помешивая воду, и ждали. Если внимательно слушать, можно было различить, как потрескивают, образуясь на поверхности, кристаллики льда; тогда исследователи вставали и алмазом наносили метку на то место трубки, у которого остановилась красная жидкость.
Гук держал на улице квадратик чёрного бархата. Если днём шёл снег, он выносил микроскоп, клал бархат на предметный столик и разглядывал снежинки. Даниель, как и Гук, видел, что ни одна не повторяет другую. И вновь Гук заметил то, что упустил Даниель.
– У каждой конкретной снежинки все лучики одинаковы – почему так происходит? Почему каждый луч не принимает свою, отличную от других форму?
– Должно быть, тут действует некий центральный организующий принцип, но… – произнёс Даниель.
– Это столь очевидно, что незачем было и говорить, – ответил Гук. – Будь у меня линзы получше, мы могли бы заглянуть в сердцевину снежинки и увидеть организующий принцип в действии.
Через неделю Гук вскрыл собаке грудную клетку и удалил рёбра, обнажив бьющееся сердце, однако лёгкие обмякли и, казалось, уже не работали.
Собака визжала почти как человек. Из дома Джона Комстока пришёл кто-то и низким красивым голосом осведомился, что происходит. Даниель, отупелый и полуслепой от усталости, принял его за мажордома.
– Я всё объясню в записке и присовокуплю извинения, – пробормотал Даниель, оглядываясь в поисках пера и вытирая окровавленные руки о штанины.
– И кому же вы адресуете записку, скажите на милость? – насмешливо проговорил мажордом.
Впрочем, для мажордома он выглядел чересчур молодым; с виду ему было чуть за тридцать. Голова поблёскивала короткой светлой щетиной – явный признак человека, который постоянно носит парик.
– Графу Эпсомскому.
– Почему бы не адресовать её герцогу Йоркскому?
– Хорошо, напишу герцогу.
– Тогда, может быть, обойдётесь без писанины и просто скажете мне, что вы тут, чёрт возьми, вытворяете?
Даниель возмутился было от такой дерзости, но тут, вглядевшись в посетителя, узнал герцога Йоркского.
Он должен был поклониться, однако от неожиданности лишь вздрогнул. Герцог движением руки показал, что принимает такой знак учтивости, а теперь давайте побыстрей к сути.
– Королевское общество, – начал Даниель, выставляя перед собой слово «королевское» как щит, – оживило мёртвую собаку при помощи крови другой собаки, а сейчас исследует искусственное дыхание.
– Мой брат любит ваше Общество, – сказал Джеймс, – вернее, своё Общество, коль скоро он объявил его королевским. – (Даниель решил, что герцог объясняет, почему ещё не приказал отстегать их кнутом.) – Меня интересуют звуки. Будут ли они продолжаться всю ночь?
– Напротив, они уже стихли, – заметил Даниель.
Лорд Верховный адмирал вслед за Даниелем прошёл на кухню, где Уилкинс и Гук вставили собаке в дыхательное горло бронзовую трубку, соединённую с теми же верными мехами, при помощи которых заставили говорить покойника.
– Раздувая мехи, они наполняют и опорожняют лёгкие, чтобы собака не умерла без воздуха, – объяснил Чарльз Комсток после того, как экспериментаторы поклонились герцогу. – Осталось лишь выяснить, как долго можно этим способом поддерживать в собаке жизнь. Мы с мистером Уотерхаузом должны по очереди раздувать мехи, пока мистер Гук не объявит, что эксперимент закончен.
При звуке Даниелевой фамилии герцог бросил на него взгляд.
– Если собака должна страдать во имя ваших исследований, благодарение Небесам, что она делает это тихо, – заметил герцог и повернулся к выходу.
Остальные двинулись было его проводить, но он остановил их словами: «Продолжайте своё занятие». А вот Даниелю Джеймс сказал: «Позвольте вас на одно слово, мистер Уотерхауз», и тот вместе с герцогом вышел на луг, гадая, не вспорют ли ему сейчас живот, как несчастному псу.
Несколько минут назад он преодолел дурацкий порыв: преградить его королевскому высочеству путь в кухню, дабы уберечь его королевское высочество от жуткого зрелища. Однако он не учёл, что герцог, при своей молодости, побывал во множестве сражений, морских и сухопутных. Какие бы муки ни терпела собака, герцог видел, как много худшее проделывают с людьми; в его глазах Королевское общество было не сборищем безжалостных мясников, а горсткой дилетантов. Лишнее доказательство, что Даниель сейчас очень плохо соображал.
Он знал лишь один способ управлять своим поведением – посредством рассудка. Принцев тоже учат мыслить рационально, как учат немного бренчать на лютне и танцевать сносный ричеркар. Однако к действиям их побуждает сила собственной воли, и в конечном счёте они делают что хотят, не оглядываясь на рациональность своих поступков. Даниелю нравилось убеждать себя, что рассудочный подход ведёт к более верному поведению, чем грубая воля; но вот герцог Йоркский увидел их эксперимент и лишь закатил глаза, не узрев ничего для себя нового.
– Мой друг привёз из Франции одну пакость, – объявил его королевское высочество.
Даниель далеко не сразу понял, о чём речь. Он пытался истолковать фразу то так, то эдак, но внезапно понимание раскатилось в мозгу, как гром в зарослях. Герцог сказал: «У меня сифилис».
– Какая жалость, – проговорил Даниель, по-прежнему не уверенный, что правильно понял собеседника. Надо было вести себя осторожно и отвечать расплывчато, чтобы разговор не выродился в комедию ошибок с ударом шпагой в финале.
– Некоторые считают, что здесь помогает ртуть.
– Но притом она ядовита, – заметил Даниель.
Это знали все, но Джеймс Стюарт, герцог Йоркский и лорд Верховный адмирал, кажется, счёл, что обратился по адресу.
– Наверняка учёные доктора, занятые искусственным дыханием и тому подобным, ищут и лекарство для таких, как мой друг.
«А также для его жены и детей», – подумал Даниель. Очевидно, Джеймс либо подцепил сифилис от Анны Гайд, либо заразил её, а она, вероятно, передала болезнь дочерям, Марии и Анне. На сегодняшний день старший брат Джеймса, король, так и не сумел произвести на свет ни одного законного ребёнка. Побочных вроде Монмута у него было хоть отбавляй, но никто из них не мог унаследовать трон. Так что пакость, которую Джеймс привёз из Франции, могла положить конец династии Стюартов.
Из этого вытекал другой занятный вопрос: почему Джеймс, имея под боком целое Королевское общество, обратился к сыну фанатика?
– Дело весьма деликатное, – продолжал герцог, – из тех, что марают честь, если пойдут разговоры.
Даниель перевёл это так: «Только проболтайтесь, и я велю кому-нибудь вызвать вас на дуэль». Впрочем, кто обратит внимание, если сын Дрейка начнёт пачкать имя герцога Йорского? Дрейк пятьдесят лет без остановки обличал распущенность правящего дома в очень похожих словах. Теперь стало ясно, чем руководствовался герцог: если Даниель по недомыслию сболтнёт, что у герцога дурная болезнь, никто не услышит – правда утонет в потоке поношений, которые постоянно изрыгал Дрейк. Впрочем, Даниель и не будет долго болтать: вскоре его найдут на окраине Лондона с множеством глубоких колотых ран.
– Итак, вы дадите мне знать, если Королевское общество набредёт на какое-нибудь лекарство? – спросил Джеймс, поворачиваясь к дому.
– Чтобы вы сообщили о нём своему другу? Всенепременно, – отвечал Даниель.
На этом разговор закончился. Даниель вернулся на кухню узнать, сколько ещё продлится эксперимент.
Ответ: дольше, чем им хотелось бы. К тому времени, как они закончили, первый свет уже сочился в окно, и взгляд понемногу угадывал, что предстанет ему с рассветом. Гук сгорбился в кресле, мрачный, потрясённый, в ужасе от самого себя. Уилкинс подпёр голову окровавленным кулаком.
Они собрались здесь, якобы спасаясь от Чёрной смерти, но на самом деле бежали от своего невежества. Они алкали знаний и набросились на еду, словно голодные бродяги в господском доме, которые тянутся к новым яствам, не переварив и даже не прожевав прежние. Оргия длилась почти год, но теперь, при свете дня, они внезапно очнулись, увидели разбросанные по полу собачьи рёбра, заспиртованные в банках селезёнки и желчные пузыри, редких паразитов, прибитых к дощечкам или приклеенных к стёклышкам, булькающие на огне яды – и внезапно стали себе противны.
Даниель собрал в охапку искромсанного пса, уже не боясь испортить одёжу – её так и так предстояло сжечь, – и вышел на поле к востоку от коттеджа, где останки подопытных животных сжигали, закапывали или использовали в экспериментах по самозарождению мух. Тем не менее воздух здесь был относительно свеж.
Опустив на землю собачий труп, Даниель обнаружил, что идёт навстречу пылающей звезде, всего в нескольких градусах над горизонтом, которая могла быть только Венерой. Он шёл и шёл, а роса смывала кровь с его башмаков. Рассветные луга мерцали зелёным и розовым.
Исаак прислал ему письмо: «Треб. помощь кас. набл. Венеры. Приезжай, коли сможешь». Тогда Даниель ещё задумался, нет ли тут чего-то завуалированного. Сейчас, стоя на серебряном от росы лугу спиной к дому кровопролития и видя перед собой лишь Утреннюю звезду, он внезапно вспомнил давние слова Исаака о гармонии небесных тел и глаз, которыми мы их наблюдаем. Четыре часа спустя, одолжив лошадь, он уже скакал в Вулсторп.
На «Минерве», Плимутский залив, Массачусетс
ноябрь 1713
Даниель просыпается в беспокойстве. Жевательные мышцы занемели, лоб и виски ломит – видимо, во сне он о чём-то тревожился. Впрочем, лучше тревожиться, чем бояться, как до вчерашнего дня, когда капитан ван Крюйк бросил идею лавировать против штормового ветра и вернулся в более спокойные воды у массачусетского побережья.
Капитан ван Крюйк, возможно, назвал бы это болтанкой или каким другим моряцким эвфемизмом, однако Даниель ушёл к себе в каюту с ведром, чтобы блевать, и пустой бутылкой, чтобы спрятать в неё записки последних дней. Быть может, столетия два спустя какой-нибудь мавр или готтентот вытащит бутылку и прочитает воспоминания доктора Уотерхауза о его знакомстве с Ньютоном и Лейбницем.
Даниель лежит на соломенном тюфяке; палуба юта всего в нескольких дюймах от его глаз. Он научился узнавать шаги капитана ван Крюйка по доскам у себя над головой. На корабле дурной тон подходить к капитану ближе чем на сажень, поэтому, даже если на юте полно народу, капитанские шаги окружены большим свободным пространством. За те две недели, что «Минерва» лавировала в поисках попутного ветра, Даниель научился угадывать настроения капитана по рисунку и ритму его движений – каждому настроению отвечали определённые фигуры, словно в придворном танце. Ровная широкая поступь означала, что всё хорошо и ван Крюйк просто обозревает свои владения. Когда он наблюдал за погодой, то кружил на месте, а когда брал замеры солнца, то стоял неподвижно, вдавив в палубу каблуки. Однако сегодня утром (Даниель предполагает, что сейчас раннее утро, хотя солнце ещё не встало) ван Крюйк ведёт себя необычно: расхаживает по юту быстрыми сердитыми шагами, на несколько секунд замирая у каждого борта. Чувствуется, что матросы уже проснулись, но они по большей части ещё в кубрике – перешёптываются или занимаются какой-то неслышной работой.
Вчера они вошли в залив Кейп-Код – мелкую бухту, образованную изгибом одноимённого мыса, – переждать северо-восточный ветер, произвести кое-какие починки и ещё лучше подготовить корабль к зиме. Однако ветер поменялся на северный и теперь грозил выбросить их на песчаные отмели в южной части залива, потому ван Крюйк взял курс на закат и, старательно лавируя между рифами по правому борту и подводными островами по левому, вошёл в Плимутский залив. С наступлением ночи бросили якорь в проливе, хорошо защищённом от ветра, и (как предполагал Даниель) решили дождаться более благоприятной погоды. Ван Крюйк явно нервничал: он удвоил ночную вахту и отправил матросов чистить внушительный корабельный арсенал ручного огнестрельного оружия.
Стёкла в каюте дрожат от далёкого грохота. Даниель скатывается с койки, как четырнадцатилетний мальчишка, и бросается к выходу, держа одну руку впереди, чтобы не размозжить себе голову в темноте. Выбежав на шканцы, он слышит ответную пальбу со всех окрестных склонов и островков, и лишь потом понимает, что это эхо первого взрыва. Будь у него хорошие карманные часы, он мог бы определить расстояние до склонов…
Даппа, первый помощник, сидит возле штурвала по-турецки и разглядывает карты в свете свечи. Странное место для такого занятия. Над головой у него болтаются на верёвке перья и разноцветные ленты. Даниель думает, что это – племенной фетиш (Даппа – африканец), пока одна из пушинок не отклоняется от дыхания холодного ветерка и не становится ясно, что делает Даппа: пытается определить, каким будет ветер после восхода. Он поднимает ладонь, призывая к молчанию, раньше, чем Даниель успевает открыть рот. Над водой слышатся крики, но далеко – сама «Минерва» тиха, словно корабль-призрак. Подойдя ближе к борту, Даниель видит рассыпанные по воде жёлтые звёзды, которые мигают, скрываясь за волнами.
– Вы ведь не знали, во что влипаете, – замечает Даппа.
– Вам удалось меня заинтриговать – так во что я влип?
– Вы на корабле, капитан которого не вступает ни в какие переговоры с пиратами, – говорит Даппа. – Ненавидит их лютой ненавистью. Прибил флаг к мачте двадцать лет назад, наш ван Крюйк – он скорее сожжёт корабль по ватерлинию, чем отдаст хоть пенни.
– А огни на воде…
– По большей части вельботы, – отвечает Даппа. – Может быть, барка-другая. С рассветом мы ожидаем увидеть парусники, но до тех пор придётся поспорить с вельботами. Слышали крики, около часа назад?
– Видно, проспал.
– К нам подошёл вельбот на обмотанных тряпьём вёслах. Мы подпустили пиратов поближе – пусть думают, будто мы спим, – и, когда они подошли к борту, уронили на них комету.
– Комету?
– Небольшое ядро, обмотанное промасленным тряпьём и подожжённое. Когда оно падает в лодку, его трудно выбросить за борт. Пока горело, мы успели хорошенько всё рассмотреть: десяток англичан в лодке, и один уже замахнулся абордажным крюком.
– Вы хотите сказать, то были английские колонисты, или…
– Вот это мы, в частности, и хотим выяснить. Отпугнув тех пиратов, мы спустили собственный баркас.
– А взрыв?..
– Граната. Среди нас есть несколько отставных гренадёров…
– Вы бросили в чью-то лодку гранату?
– Да, а затем – если всё идёт по намеченному – наши филиппинцы, бывшие ловцы жемчуга, превосходные пловцы, перелезли через борт с ножами в зубах и перерезали несколько глоток…
– Но это безумие! Здесь Массачусетс!
Даппа смеётся:
– Истинная правда!
Через час солнце во всей красе встаёт над заливом Кейп-Код. Даниель расхаживает по палубе, пытаясь найти место, где не придётся слушать вопли пиратов. Сейчас рядом с «Минервой» качаются две шлюпки; корабельный баркас, недавно просмолённый и покрашенный, и пиратский вельбот, который явно и до сегодняшнего сражения находился не в лучшей форме. Щепки светлого дерева показывают, где банку взорвало гранатой, на дне плещется кровь. Участники вылазки захватили в плен пятерых уцелевших морских разбойников. Сейчас (судя по звукам) все они в трюме, и двое самых дюжих матросов окунают их головой в грязную воду. Когда пленникам дают наконец глотнуть воздуха, они отчаянно вопят, и Даниелю вспоминаются Уилкинс и Гук с их несчастными псами.







