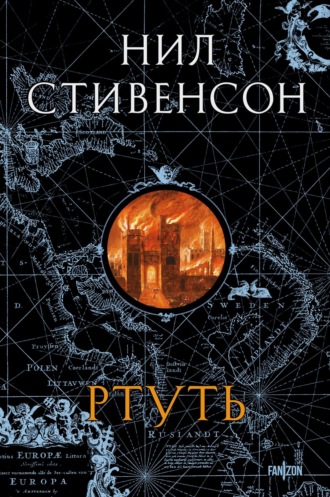
Нил Стивенсон
Ртуть
Чумной год
Лицо Земли – Твой стол, и он накрыт
Для пира; Смерть за трапезой сидит.
Сады, стада, народы, всё пожрёт
Чумной, кровавый, вечно алчный рот.
Джон Донн, «Элегия магистру Булстреду»
лето 1665
Даниель ел картошку с селёдкой тридцать пятый день кряду. Поскольку дело происходило в отцовском доме, он обязан был до и после еды вслух благодарить Бога. День ото дня молитвы становились всё менее искренними.
С одной стороны дома мычал в вечном недоумении скот, с другой брели по улице люди, звеня в колокольчики (для имеющих уши) и неся длинные красные палки (для зрячих). Они заглядывали в двери и во дворы, совали нос за садовые ограды, ища трупы умерших от чумы. Все, у кого были деньги на переезд, сбежали из Лондона, в том числе старшие братья Даниеля Релей и Стерлинг с семьями, а также его единокровная сестра Мейфлауэр, вместе с детьми окопавшаяся в Бакингемшире. Только муж Мейфлауэр, Томас Хам, и Дрейк Уотерхауз, патриарх, отказались покинуть Лондон. Хам охотно бы уехал, но не мог бросить свой погреб в Сити.
Дрейку и в голову не пришла мысль спасаться от чумы. Обе его жены давно умерли, старшие дети сбежали, и некому было урезонить старика, за исключением разве что Даниеля. Кембридж на время чумы закрыли. Даниель заглянул в Лондон, предполагая совершить короткий отчаянный набег на пустой дом, и застал отца за верджинелом: тот играл гимны времён Гражданской войны. Все хорошие монеты Даниель потратил – сперва на покупку призм для Исаака, потом на извозчика, не желавшего поначалу и на выстрел приближаться к чумному городу. Чтобы выбраться из Лондона, надо было просить деньги у отца, а Даниель боялся даже заикнуться на эту тему. Всё предопределено: коли им написано на роду умереть от чумы, они умрут, сколько ни бегай; коли нет, вполне можно оставаться на окраине города и подавать пример убегающему/вымирающему населению.
Из-за манипуляций, произведённых с его лицом по приказу архиепископа Лода, Дрейк Уотерхауз, жуя картошку с селёдкой, издавал необычные сипение и присвист.
В 1629-м Дрейка и нескольких его друзей схватили за раздачу свежеотпечатанных памфлетов на улицах Лондона. Конкретный пасквиль был направлен против «Корабельной подати» – нового налога, введённого Карлом I. Тема, впрочем, не имела значения; в 1628-м памфлет был бы о чём-нибудь другом, не менее оскорбительном для короля и архиепископа.
Неосторожное замечание, оброненное одним из товарищей Дрейка, когда тому под ногти вгоняли горящие щепки, позволило властям отыскать печатный станок, который Дрейк прятал в фургоне под грудой сена. Определив, таким образом, зачинщика, Лод повелел, чтобы его, а также нескольких других особо докучливых кальвинистов поставили к позорному столбу, заклеймили и подвергли урезанию носа и ушей. То было не столько наказанием, сколько практической мерой. Цель исправить преступников – явно неисправимых – не ставилась. Позорный столб должен был зафиксировать их в одном положении, дабы весь Лондон пришёл, разглядел этих людей и запомнил на будущее. Клеймение, а также лишение носа и ушей необратимо меняло их облик к сведению всего остального мира.
Всё это случилось за годы до рождения Даниеля и нимало его не смущало – просто отец всегда так выглядел, – и уж тем более не смущало самого Дрейка. Через несколько недель он снова был на большой дороге, скупал сукно для контрабандной доставки в Нидерланды. В сельской корчме по пути в Сент-Айвс Дрейк встретил угрюмого сквайра по имени Оливер Кромвель, который в то время переживал тяжелейший религиозный кризис и крушение всех личных надежд – по крайней мере, так он думал, пока не взглянул на Дрейка и не обрёл веру. С того дня он почувствовал себя ратником Божьим, но это совсем другая история.
В ту пору владельцы домов старались иметь минимум мебели, зато как можно более тяжёлой и тёмной. Соответственно стол, за которым Дрейк и Даниель ели картошку с селёдкой, размерами и весом напоминал средневековый подъёмный мост. Другой обстановки в комнате не было, хотя присутствие восьмифутовых напольных часов в соседнем помещении ощущалось по всему дому. При каждом махе тяжеленного, с пушечное ядро, маятника здание вело, как пьяного при ходьбе; зубчатые колёса скрежетали, а от боя, раздававшегося через подозрительно неравные промежутки времени, стаи перелётных гусей в тысяче футов над головой сталкивались и меняли курс. Меховая оторочка пыли на готических зубцах, мышиный помёт в механизме, римские цифры, вырезанные на задней стенке изготовителем, и полная неспособность показывать время выдавали в часах творение до-гюйгенсовой эпохи. Громоподобный бой выводил бы Даниеля из себя, даже если бы точно отмечал положенные часы, половины, четверти и прочая, поскольку всякий раз заставлял его подпрыгивать от испуга. То, что бой не несёт абсолютно никакой информации о времени, приводило Даниеля в исступление; ему хотелось встать на пересечении коридоров и, сколько раз Дрейк будет проходить мимо, столько раз совать ему в руку памфлет против старинных часов с требованием остановить заблудший маятник и заменить его новым гюйгенсовским. Однако Дрейк уже велел ему молчать про часы, так что ничего было не изменить.
Даниель по несколько суток не слышал никаких звуков, кроме перечисленных выше. Все возможные темы для разговоров делились на две категории: (1) те, что спровоцируют Дрейка на тираду, которую Даниель и без того уже мог бы повторить наизусть, и (2) могущие и впрямь послужить началом беседы. Категорию (1) Даниель старательно обходил. Категория (2) была давно исчерпана. Например, Даниель не мог спросить: «Как поживает Восславь-Господа*[11] в Бостоне?», поскольку задал этот вопрос в первый же день и получил ответ, а с тех пор письма почти не приходили, так как письмоносцы либо умерли, либо дали стрекача из Лондона. Иногда нарочные доставляли письма – чаще Дрейку, по делам, реже Даниелю. Разговора о них хватало на полчаса (не считая тирад). По большей части Даниель дни напролёт слушал скрип чумных телег и звон колокольчиков; бой ненавистных часов; коровье мычание; голос Дрейка, читающего вслух пророка Даниила; верджинел и скрипение собственного пера по бумаге. Он прорабатывал Евклида, Коперника, Галилея, Декарта, Гюйгенса и сам дивился тому, сколько всего постиг. Он почти не сомневался, что знает столько же, сколько знал Исаак месяцы назад; однако Исаак был у себя в Вулсторпе, за сотни миль отсюда, и наверняка обогнал его на несколько лет.
Даниель ел картошку и селёдку с упорством заключённого, проскребающего дырку в стене. Семейный фаянс Уотерхаузов был изготовлен в Голландии людьми искренними, но неумелыми. После того как Яков I запретил вывозить в Нидерланды английские ткани, Дрейк начал доставлять их туда контрабандой, что было несложно, поскольку Лейден кишел его единоверцами англичанами. Так Дрейк нажил своё первое состояние, причём самым богоугодным способом – смело презирая попытки короля помешать коммерции. Более того, в 1617 году он женился в Лейдене на молоденькой пуританке и сделал крупное пожертвование тамошним верующим, которые собирались приобрести корабль. Благодарные пилигримы, прежде чем взойти на «Мейфлауэр» и отплыть в солнечную Виргинию, презентовали Дрейку и его молодой супруге Гортенс сервиз дельфтского фаянса. Очевидно, посуду они изготовили сами в убеждении, что умение делать что-либо из глины будет в Америке нелишним. То были тяжёлые грубые тарелки, покрытые белой глазурью и украшенные синей корявой надписью, гласящей:
МЫ ОБА ПРАХ.
Созерцая эти слова сквозь вонючие селёдочные миазмы тридцать пятый день кряду, Даниель внезапно объявил:
– Думаю, я мог бы, с Божьей помощью, навестить преподобного Уилкинса.
Уилкинс и Даниель обменивались письмами с той горестной поры, когда пять лет назад Даниель прибыл в Тринити-колледж и узнал, что Уилкинса только что вышибли оттуда навсегда.
Фамилия «Уилкинс» не спровоцировала тираду, и Даниель понял, что успешное начало положено. Впрочем, оставались некоторые формальности.
– Зачем? – спросил Дрейк.
Голос у него был будто у засорившегося орга́на, слова выходили частью через рот, частью через нос. Вопросы он произносил словно готовые утверждения; «зачем» звучало так же, как «МЫ ОБА ПРАХ».
– Моя цель – учиться, а из книг, которые у меня здесь есть, я, кажется, всё, что можно, уже узнал.
– Как насчёт Библии, – мастерский выпад со стороны Дрейка.
– Библии, слава Богу, есть везде, а преподобный Уилкинс всего один.
– Он проповедует в государственной церкви, разве нет.
– Да. В церкви Святого Лаврентия Еврейского.
– Тогда тебе нет нужды ехать.
(Подразумевая, что туда четверть часа ходьбы.)
– Чума, отец. Сомневаюсь, что за последние месяцы он хоть раз побывал в городе.
– А как же его паства.
Даниель едва не выпалил: «Ты про Королевское общество?», что в другом месте (только не здесь) расценили бы как остроту.
– Все разбежались, отец, те, что не умерли.
– Высокоцерковники, – пояснил для себя Дрейк. – Где сейчас Уилкинс.
– В Эпсоме.
– С Комстоком. О чём он только думает.
– Не секрет, что вы с Уилкинсом оказались по разные стороны ограды.
– Золотой ограды, которой Лод окружил престол Божий! Да.
– Уилкинс не меньше тебя ратует за веротерпимость. Он надеется реформировать церковь изнутри.
– Да, и уж кто внутри, так это Джон Комсток, граф Эпсомский. Зачем тебе встревать в эти дела.
– Уилкинс в Эпсоме не дискутирует о религии. Он занимается натурфилософией.
– Странное же место он выбрал.
– Сын графа, Чарльз, из-за чумы не может учиться в Кембридже. Уилкинс и несколько других членов Королевского общества приглашены к нему в качестве наставников.
– А! Ясно! Это место, где ему предоставили стол и кров.
– Да.
– Что ты надеешься узнать от преподобного Уилкинса.
– Всё, чему он захочет меня научить. Через Королевское общество Уилкинс связан со всеми видными натурфилософами Британских островов и со многими на Континенте.
Дрейк задумался.
– Ты просишь у меня финансовой помощи, дабы ознакомиться с гипотетическим познанием, которое, по твоему мнению, возникло из ничего в самое последнее время.
– Да, отец.
– Смелое допущение.
– Не настолько, как ты думаешь. Мой друг Исаак – я о нём рассказывал – говорил о порождающем духе, который пронизывает всё. Благодаря этому духу из старого рождается новое. Коль не веришь мне, спроси себя, как цветы растут из навоза? Почему в мясе образуются личинки мух, в корабельной обшивке – черви? Почему отпечатки раковин появляются на камнях вдалеке от моря и новые камни вырастают на пашне после того, как собран урожай? Тут явно действует какой-то организующий принцип, незримо наполняющий бытие. Через него мир может обновляться, а не только гнить.
– И всё же он гниёт. Выгляни в окно! Прислушайся к колокольчикам! Десять лет назад Кромвель переплавил сокровища короны и дал людям свободу вероисповедания. Сегодня тайный папист*[12] и холуй Антихриста**[13] правит Англией; из английского золота льют чаши для королевских оргий, а мы, истинно верующие, должны отправлять богослужения тайно, как первые христиане в языческом Риме.
– Порождающий дух требует пристального изучения отчасти и потому, что может вызвать в том числе дурные последствия. В каком-то смысле пневма, заставляющая бубоны расти из живого тела, может быть сродни той живой силе, которая заставляет грибы появляться из земли после дождя, но одни проявления мы находим пагубными, другие – благими.
– Ты думаешь, Уилкинс знает об этом больше.
– Я пытаюсь объяснить само существование таких, как Уилкинс, и его клуба, который теперь зовётся Королевским обществом, а также других объединений, например Академии господина де Монмора в Париже…
– Понимаю. Ты считаешь, что тот же дух действует в умах.
– Да, отец, и в самой почве страны, породившей так много натурфилософов за столь короткое время, к большой досаде папистов. – (Выпад в сторону папистов делу не повредит.) – И как крестьянин, глядя на всходы, уверен в будущем урожае, так и я не сомневаюсь, что за последние месяцы эти люди достигли многого.
– Но зачем это надо, перед самым светопреставлением.
– Всего несколько месяцев назад, на последнем собрании Королевского общества, мистер Даниель Кокс сообщил, что в лайнских меловых карьерах живое серебро струится по дну выработок, словно вода. И лорд Бреретон сказал, что ртуть обнаружили также в Сент-Олбансе, в яме пильного станка.
– По-твоему, значит.
– Может быть, все эти непомерные разрастания – натурфилософия, чума, власть короля Людовика, оргии в Уайтхолле, меркурий, бьющий ключом из земных недр, – необходимые приуготовления к концу света. Порождающий дух прибывает, как вода в прилив.
– Это всё очевидно, Даниель. Я просто сомневаюсь, что следует продолжать твои штудии, когда последние дни уже наступили.
– Одобришь ли ты крестьянина, который даст своему полю зарасти сорняками, потому что близится конец света?
– Разумеется, нет. В твоих словах есть резон.
– Коли мы обязаны наблюдать все знаки грядущего светопреставления, то отпусти меня, отец. Ибо если эти знаки – кометы, то первыми о них узнают астро́номы. Если чума, то…
– …Врачи. Да, я понял. Ты хочешь сказать, будто люди, изучающие натурфилософию, способны получить некое особое знание – проникнуть в тайны Божьего мира, которые обычный человек не может вычитать из Библии?
– Э… мне кажется, это именно то, что я пытаюсь сказать.
Дрейк кивнул:
– Так я и думал. Что ж, Господь дал нам мозги ради какой-то цели, и грех ими не пользоваться.
Он встал, отнёс тарелку на кухню, потом подошёл к конторке в передней и достал причиндалы, необходимые, чтобы писать пером на бумаге.
– Монет у меня сейчас маловато, – проговорил он, чередуя яростную скоропись с длинными цветистыми росчерками, словно бретёр, выписывающий шпагой хитрые вензеля.
Мистер Хам, прошу выдать подателю сего один фунт (£1) из моих средств, вверенных вашему попечению.
Дрейк Уотерхауз
Лондон
– Что это, отец?
– Обязательство золотых дел мастера. Ими стали пользоваться примерно о ту пору, когда ты отправился в Кембридж.
– Почему «подателю сего»? Почему не «Даниелю Уотерхаузу»?
– В этом-то вся и прелесть! Ты мог бы, при желании, оплатить данной распиской долг в один фунт – просто вручил бы её кредитору, а тот пошёл бы к Хаму и получил фунт звонкой монетой. Или оплатил бы ею свои долги.
– Ясно. В таком случае эта бумага означает просто, что я могу прийти в Сити и предъявить её дяде Томасу или любому другому Хаму…
– И они сделают, что ею предписано.
Это был вполне заурядный пример врождённого Дрейкова жестокосердия. Даниель мог отправляться в Эпсом – логово архиангликанина – и постигать натурфилософию буквально до конца света. Однако, чтобы раздобыть средства на поездку, он должен был доказать свою веру, пройдя через чумной Лондон. Испытание судом Божьим.
На следующее утро: плащ и стоптанные сапоги (хотя лето стояло жаркое). Платок, чтобы через него дышать*[14]. Минимальный запас исподнего и чистых рубах (за остальным Даниель собирался послать из Эпсома, буде доберётся туда здоровым). Несколько книг (тоненькие студенческие томики в одну восьмую листа, творения континентальных учёных, исписанные на полях и между строк его почерком). Письмо от Уилкинса (с вложением от Роберта Гука), пришедшее на прошлой неделе. Всё это в мешок, мешок – на палку, палку – на плечо. Вид получился как у бродяги, но в городе многие промышляли грабежом за неимением других заработков, так что разумно было иметь крепкую палку и выглядеть победнее.
Дрейк, на прощание:
– Скажи старине Уилкинсу, что я не осуждаю его за переход в англиканство, ибо верю, что он сделал это ради реформирования церкви, к которому всегда стремились те из нас, кого уничижительно зовут пуританами.
Потом Даниелю:
– Остерегайся заразиться чумой – я не о бубонной чуме, а о чуме скептицизма, столь модной в кругу Уилкинса. Менее опасно для твоей души было бы оказаться в борделе, нежели среди некоторых членов Королевского общества.
– Это не скептицизм ради скептицизма, отец. Просто понимание, что нам свойственно заблуждаться и трудно смотреть на что-либо непредвзято.
– Таков подход хорош, когда дело касается комет.
– Тогда я не буду говорить о религии. До свидания, отец.
– Господь да хранит тебя, Даниель.
Он открыл дверь, стараясь не морщиться от уличного воздуха, ударившего в лицо, и спустился по ступеням на дорогу, называемую Холборн, – реку утоптанной пыли (дождей не было уже довольно давно). Дом Дрейка, новый (послекромвелевский), фахверковый, стоял в одном ряду с деревянными. Вместе они образовывали как бы ограду, которая отделяла Холборн от открытых полей, простиравшихся до самой Шотландии. Дома на другой, южной стороне Холборна были такие же, но выстроены двумя десятилетиями раньше (то есть до Гражданской войны). Местность была ровная, за исключением некоего подобия стоячей волны, которая вилась через поля и пересекала Холборн чуть дальше вправо – как если бы на Лондонский мост упала комета и рябь, пробежав по земле, остановилась у дома Дрейка. То были остатки одного из земляных валов, возведённых лондонцами (до Кромвеля) в начале Гражданской войны для защиты от королевских войск. В ту пору существовали и ворота на Холборне, и звездообразный земляной форт по соседству, но ворота давно сломали, а форт осыпался и зарос травой; теперь на нем несли караул самые молодые и предприимчивые бычки.
Даниель повернулся налево, к Лондону – чистое безумие. Однако Уилкинс в письме и Гук (протеже Уилкинса по оксфордским дням, а ныне куратор экспериментов Королевского общества) в записке кое о чём просили. Просьбы были сформулированы самым вежливым образом. Ну, пожалуй, в случае Гука, не самым вежливым. Оба учёных были бы чрезвычайно признательны, если бы Даниель забрал некие предметы из неких домов в Лондоне.
Даниель мог бы сжечь письмо и объявить, что не получал его. Он мог бы отправиться в Эпсом без названных предметов, сославшись в оправдание на чуму. Правда, Уилкинс с Гуком, подобно Дрейку, не признавали оправданий.
Став студентом Тринити в самое неподходящее время, Даниель пропустил первые пять лет Лондонского Королевского общества. Позже он присутствовал на нескольких собраниях, но всегда чувствовал себя так, будто смотрит через стекло, прижимаясь к нему носом.
Сегодня ему предстояло в качестве членского взноса пойти в Лондон. Что ж, на службе натурфилософии совершались подвиги и поопаснее.
Даниель сделал шаг и обнаружил, что ещё не умер. Сделал второй, третий. Некоторое время город казался до жути обыденным, если не слушать похоронный звон из сотни разных приходских церквей. При ближайшем рассмотрении стало видно, что многие украсили стены своих домов истеричными призывами к Божьему милосердию, надеясь, что надписи эти, как кровь агнцев на перекладинах и косяках еврейских домов, остановят ангела смерти. Лишь изредка по Холборну проезжали телеги. Пустые двигались в город, распространяя омерзительное зловоние, окружённые тучами мух, которые, в свою очередь, привлекали целые стаи птиц. Они возвращались с похорон. Телеги с людьми ехали из города. Их сопровождали те же сторожа с колокольчиками и красными палками. Неподалёку от земляного вала, там, где Холборн утыкался в Оксфордскую дорогу, устроили чумной барак, а когда он наполнился мертвецами, то и другой, дальше, к северу от Тайбернских виселиц, в Мэрилебоне. Кто-то на телегах выглядел совсем здоровым, другие достигли той стадии болезни, при которой малейшее движение причиняет адскую боль, так что и без колокольчиков телеги можно было бы услышать по взрывам стонов и молитв на каждом дорожном ухабе. Даниель и другие редкие пешеходы, пропуская телеги, прятались в подворотни и дышали сквозь платки.
Через Ньюгейт и развалины римской стены, мимо тюрьмы, притихшей, но не пустой. К четырёхугольной звоннице Святого Павла, где усталые звонари раскачивали огромный колокол, отсчитывая прожитые покойником годы. Старая башня покосилась так давно, что лондонцы давно перестали это замечать. Впрочем, сейчас казалось, будто она накренилась ещё сильнее, и Даниель внезапно испугался, что башня рухнет прямо на него. Всего несколько недель назад Роберт Гук и сэр Роберт Морэй поднимались на колокольню для опытов с двухсотфутовым маятником. Сейчас церковь окружали бастионы свежевскопанного грунта – могилы поднимались над землёй почти на целый ярд.
К старому, изъеденному угольным дымом фасаду несколько десятилетий назад прилепили классический портик. Однако новая колоннада тоже уже рушилась; её сильно попортили во времена Кромвеля, когда между колоннами понастроили мелочны́х лавок. В те годы кавалеристы круглоголовых порубили мебель из западной половины церкви на дрова и разместили там конюшню на тысячу лошадей, а навоз продавали замерзающим лондонцам по четыре пенса за бушель. Тем временем в восточной половине Дрейк, Болструд и другие произносили трёх-четырёхчасовые проповеди при всё уменьшающемся стечении народа. Считалось, что король Карл приступил к восстановлению собора, но Даниель не видел ни малейших тому свидетельств.
Он обошёл церковь с южной стороны, хоть это было и дальше, – хотел взглянуть на южный трансепт, рухнувший несколько лет назад. Поговаривали, будто камни побольше и получше пошли на флигель, который Джон Комсток пристроил к своему дому на Пикадилли. И впрямь, части камней явно недоставало, но сейчас, разумеется, здесь никто не работал, кроме могильщиков.
В Чипсайде несколько человек, взобравшись по приставным лестницам, вынимали из верхних окон заколоченного дома обессиленных, измождённых детей, которые каким-то чудом пережили своих родителей. Ближе к реке Даниель первый и последний раз увидел скопление людей: очередь перед домом Натаниеля Ходжеса, единственного из врачей, которому хватило мужества остаться в городе. Отсюда до дома Уилкинса было рукой подать. Уилкинс прислал Даниелю ключ, который не понадобился, поскольку дверь уже взломали грабители. Они выворотили половицы и вспороли матрасы – дом, усыпанный соломой и досками, напоминал амбар. Книги сбросили с полок, проверяя, не спрятано ли что-нибудь за ними. Даниель составил их на место, а две или три новые, которые Уилкинс просил забрать, прихватил с собой.
Затем – в церковь Святого Лаврентия Еврейского*[15]. «Иди вдоль водосточной трубы, найдёшь земноводных», – написал Уилкинс. Даниель обошёл кладбище, покрытое свежими могилами, которые, впрочем, ещё не начали насыпать одну поверх другой: прихожане Уилкинса, по большей части зажиточные торговцы, сбежали в загородные дома. С одного края крыши спускалась водосточная труба и ныряла в окно. Даниель вошёл в церковь и, следуя за трубой, очутился в подвале, где различные богослужебные принадлежности дожидались медленной смены литургического календаря (пасхальное, рождественское и прочее убранство) либо внезапной перемены в господствующей теологии. (Высокоцерковники, вроде покойного архиепископа Лода, хотели окружить престол оградой, дабы приходские собаки не задирали на него лапы; поборники простоты, вроде Дрейка, – нет; преподобный Уилкинс, склонявшийся на сторону Дрейка, спрятал ограду в подвал.) Помещение гудело, почти дрожало, как если бы спрятанные по углам монахи распевали молитвословия, но на самом деле это жужжала целая цивилизация мух, столь огромных, что некоторые звучали почти на басах. Они расплодились на дохлых крысах, осенней листвой устилавших пол. Пахло соответственно.
Водосточная труба входила в подвал через отверстие в потолке и заканчивалась над огромной каменной купелью для крещения младенцев – вероятно, её задвинули в угол о ту пору, когда король Генрих VIII запретил в Англии католичество. Даниель предположил это по каменной резьбе, которая была так насыщена папистскими символами, что не удалось бы сбить их все, не уничтожив саму купель. Когда она наполнялась дождевой водой, излишки выплёскивались на пол, стекали к стене и просачивались в землю – вероятно, больных крыс пригнала сюда жажда.
Купель была прикрыта решёткой, придавленной двумя кирпичами. Из-под решётки раздавалось довольное кваканье. Что-то розовое взметнулось между прутьями, схватило муху, замерло на мгновение и тут же втянулось обратно. Даниель снял кирпичи, приподнял решётку и заглянул внутрь. На него смотрели – а он смотрел на – полдюжины самых здоровых лягушек, каких ему только случалось видеть, лягушек размером с терьеров, лягушек, способных языком ловить на лету воробьёв. Стоя посреди Града Погибели, Даниель расхохотался. Порождающий дух неистовствовал в дохлых крысах, обращая их в мух, из которых черпали жизненную силу счастливые лупоглазые лягвы.
Тысячи слабеньких щелчков сливались в стук, словно град колотит по стеклу. Даниель поглядел вниз и увидел, что это всего лишь орды блох. Покинув дохлых крыс, они устремились к нему со всех сторон и сейчас рикошетом отлетали от кожаных сапог. Он обошёл подвал, отыскал корзину для хлеба, пересадил в неё лягух, неплотно накрыл их тканью и вышел на улицу.
Реки он отсюда не видел, но мог догадаться, что прилив кончается, потому что вода в канаве посреди Полтри-Лейн начала неуверенно пробираться вниз с Лиденхолл. В обычные дни она несла бы обрывки бумаг с Биржи, однако сейчас на поверхности плыли только дохлые кошки и крысы.
Стараясь держаться подальше от канавы, Даниель тем не менее двинулся против её течения к району, в котором жили золотых дел мастера и откуда в разные стороны расходились Треднидл, Полтри, Ломбард и Корнхилл. Он вышел в самую высокую точку Сити, где Корнхилл встречался с улицей Лиденхолл (которая продолжалась на восток, но уже вниз), Рыбной улицей (прямо вниз, к Лондонскому мосту) и Бишопсгейт (вниз к городской стене, Бедламу и вырытой рядом общей могиле для умерших от чумы). На пересечении их торчала колонка, из которой речная вода лилась по патрубкам в канавы на каждой из этих улиц. Колонка соединялась с трубой, идущей под Рыбной улицей к северному окончанию Лондонского моста. В елизаветинские времена какой-то сметливый голландец построил там водяные колёса. Хотя люди, призванные за ними следить, умерли или разбежались, колёса принимались вращаться всякий раз, как после прилива вода скапливалась за мостом. Колёса приводили в действие помпы, которые качали воду по трубе под Рыбной улицей. Таким образом, если вы жили в этой части города, течение смывало ваши отбросы, а если в другой – два раза в день несло мимо вас поток мусора, дохлятины и дерьма.
Даниель двинулся вдоль вышеназванного потока по Бишопсгейт, но дошёл только до стены, окружающей дом, вернее, целый комплекс строений, которые сэр Томас Грешем, автор знаменитых слов «Дурная монета вытесняет полновесную», воздвиг сто лет назад на средства, полученные от ссуд правительству и реформирования денежной системы. Как все фахверковые дома, они изрядно покосились, но Даниель любил это место, поскольку здесь обосновалось Королевское общество.
И Роберт Гук, куратор экспериментов Королевского общества, переехавший сюда девять месяцев назад, чтобы полностью посвятить себя опытам. Гук прислал Даниелю список всякого хлама, нужного ему для работы. Даниель оставил корзину с лягушками и прочее добро в зале, где собиралось Королевское общество, и совершил несколько вылазок в комнаты Гука, а также в различные помещения, на чердаки и в подвалы.
Даниелю предстали: груда древесных спилов, которые кто-то собрал в доказательство, что утоньшение годичных колец указывает истинный север. Бразильская рыба-компас, которую Бойль подвесил на нитку, проверяя легенду, согласно которой она обладает таким же свойством. (Когда Даниель вошёл, рыба указывала на юго-юго-восток.) В склянках: порошок гадючьих лёгких и печени (кто-то надеялся получить из него маленьких гадюк), иногда называемый также симпатическим порошком и применяемый в знахарстве для лечения ран. Образчики загадочной красной жидкости из Кровавого пруда в Ньюингтоне. Орехи бетеля, камфорное дерево, рвотный орех, называемый также чилибуха, носорожий рог. Волосяной ком, который сэр Уильям Кертис извлёк из коровьего желудка. Опыт: несколько галек в сосуде с водой – настолько узкогорлом, что они еле-еле туда прошли; если потом их не удастся вынуть, это докажет, что камни растут в воде. Очень много всевозможной поломанной древесины, английской и привозной – остатки бесконечных экспериментов по определению прочности балок. Сердце графа Балкарреса, которое тот передал для научного изучения, правда лишь после своей кончины. Коробочка с камнями, которые разные люди отхаркнули из лёгких (Королевское общество собиралось подарить их королю). Сотни осиных и птичьих гнёзд с именами жертвователей. Детские позвонки, извлечённые из гнойника в боку женщины, у которой за двенадцать лет до того случилась замершая беременность. Заспиртованные: различные человеческие зародыши, голова жеребёнка с двойным глазом посреди лба, японский угорь. На стене: шкура ягнёнка с семью ногами, двумя туловищами и одной головой. За стеклом, в стадии разложения: коллекция ядовитых змей. Все они передохли с голоду, причём некоторые пытались проглотить свой хвост, словно подражая алхимическому Уроборосу. Ещё волосяные комки. Сердца казнённых, с виду неотличимые от графского. Флакончик с семенами, якобы обнаруженными в моче одной голландской девицы. Пузырёк синего красителя, полученного из дубильных орешков, зелёного – из железного купороса. Карандашный портрет карлика из числа якобы населяющих Канарские острова. Сотни конкреций магнитного железняка самых разных форм и размеров. Модель исполинского арбалета, из которого Гук собирался гарпунить китов. U-образная трубка, которую Бойль наполнил ртутью, доказывая, что её колебания сродни колебаниям маятника.
Гук просил Даниеля забрать различные детали, инструменты и материалы, потребные для изготовления часов и других тонких механизмов; камни, которые он обнаружил в графском сердце, гигроскоп из ости овсюга, зажигательное стекло в деревянной раме, выпуклые очки, чтобы смотреть под водой, рососборник*[16], а также избранные мочевые пузыри из его обширной коллекции: свиной, коровий и так далее. Ещё Гуку требовались (в ни с чем не сообразном количестве) шары различного размера из всевозможных материалов: свинца, янтаря, дерева, серебра и прочего для бросания и катания. Кроме того, различные части воздухосжимательной машины. Искусственный глаз. Наконец, Гук просил прихватить «любых щенков, котят, цыплят, мышей и проч., какие только попадутся, ибо количество их в ближайших окрестностях заметно уменьшилось».







