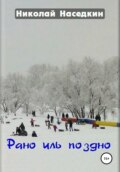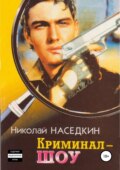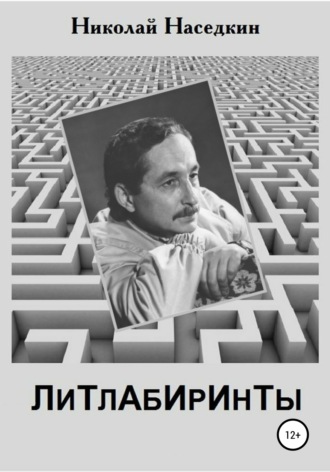
Николай Николаевич Наседкин
Литлабиринты
В конце концов я не выдержал, опять пробился к губернатору и слёзно умолил добавить-увеличить количество грантов. Упросил – сделали 30 стипендий. Целых два года её получали практически все члены писательской организации, кроме «мёртвых душ» (три писателя стояли у нас на учёте, но жили в столице или за границей – обычное дело). Увы, подключились на сей раз завистники из других творческих организаций (почему, мол, писателям стипендии, а художникам или артистам нет?), чиновники и депутаты начали менять положение о стипендиях, перекраивать его так и этак и в результате осталось на область 50 единовременных творческих грантов по сколько-то там тысяч, на которые могли претендовать и претендовали не только писатели (30 человек), художники (а их человек 60 и все они имели возможность зарабатывать и подрабатывать своей кистью), артисты (100 или более лицедеев, которые все получали зарплаты), но, допустим, преподаватели музыкального училища и даже чиновники от культуры…
Загубили, одним словом, благое дело!
Обижались, само собой, и крепко обижались на председателя писорганизации те, кому не удавалось с ходу попасть в её ряды. Тем более, что ранее это было сделать довольно легко. Порой даже на собрании кандидата не обсуждали, только на бюро, куда кроме председателя входило ещё два-три человека. В результате за предыдущие десять лет организация увеличилась вдвое и сразу надо сказать – в основном, количественно, но отнюдь не качественно. Как уже упомянул, новое правление внесло некоторые уточнения, подсказанные временем и практикой, в Правила приёма, и на общем собрании мы их обсудили-утвердили в новой редакции. Вот для истории сей документ:
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК
приёма в Союз писателей России
(Тамбовское отделение)
В соответствии с Уставом Союза писателей России (ч. 3), в СП принимаются лица, подтвердившие своим творчеством статус профессионального писателя, на основе личного заявления.
1) В правление Тамбовской писательской организации необходимо представить:
Заявление о приёме.
Изданные книги (как правило, не менее 3‑х), каждую – в 3‑х экземплярах.
Список основных публикаций.
Печатные отзывы, рецензии, статьи о творчестве вступающего в СП.
Три развёрнутые, аргументированные рекомендации от членов СП, имеющих стаж членства не менее 3‑х лет. Примечание: Председатель правления от дачи рекомендаций освобождается.
Личный листок по учёту кадров – 2 экз.
Фотографии – 4 шт.
Автобиографию – 2 экз.
2) Заявление предварительно рассматривается на заседании правления писательской организации с приглашением кандидата и авторов рекомендаций, которые должны аргументированно и аналитически представить творчество своего протеже, обосновать его профессионализм, соответствие уровню члена СП.
3) По рекомендации правления вопрос о приёме в СП кандидата выносится на общее собрание писательской организации. Совместными усилиями правления и кандидата необходимо сделать всё для того, чтобы с творчеством последнего заранее, до собрания ознакомилось как можно больше членов СП.
4) Вопрос о приёме считается решённым, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 от числа членов областной писательской организации (учитывая и голоса писателей, отсутствующих на собрании по уважительным причинам, но при условии, если они представят до начала собрания своё решение «за» или «против» в конверте на имя председателя правления – обязательно в развёрнутом, аргументированном виде). Отсутствующие на собрании и не приславшие решения в письменном виде – считаются проголосовавшими «против».
5) Решение собрания областной писательской организации о приёме кандидата в члены СП рассматривается и утверждается (или не утверждается) в Москве на заседании Приёмной коллегии правления СП РФ.
6) Вопрос о приёме кандидата, «не прошедшего» Приёмную коллегию, вновь рассматривается на общем собрании областной писательской организации только после выхода его следующей книги (следующих книг).
7) Если кого-либо из кандидатов примут в Союз писателей России, минуя решение областной писательской организации, вопрос о его постановке на учёт в Тамбовском отделении СП будет решаться правлением Тамбовской писательской организации.
Вставки-дополнения выделены. Понятно, что теперь председатель в какой-то мере ограничивался в праве пополнять организацию по своему усмотрению, значительно повышалась ответственность авторов рекомендаций и голосующих заочно, ну и очень важен пункт седьмой, ибо участились случаи, когда кандидат в профписатели, которого прокатили дома на собрании, отправлялся прямиком в столицу, какими-то неведомыми путями-способами добывал там заветные писательские корочки, возвращался в родные недружелюбные пенаты, спокойно становился на учёт и вливался как бы полноправным членом в писорганизацию, да ещё становился, как правило, одним из самых горластых и недовольных. Я ещё предлагал дополнить в пункте первом строку о наличии трёх книг у кандидата примечанием, что хотя бы одна из книг должна быть издана не за счёт автора или спонсора, но тут меня сотоварищи не поддержали – тогда в Тамбове и принимать было бы некого…
Кому-то Правила и порядок приёма в СП казались чересчур жёсткими и сложными, я в ответ «успокаивал»: к примеру, защитить кандидатскую и тем более докторскую диссертацию намного труднее, сложнее и нервомотательнее, однако ж, гляньте, этих кандидатов и докторов в одной нашей области человек триста, а писателей-то всего тридцать…
Наши обновлённые правила начали действовать (и даже, можно сказать, чересчур жёстко) уже на первом «приёмном» собрании. Кандидатов было трое – все поэты, все мужики. Двое помоложе, один уж в возрасте. У каждого не менее трёх книг, изданных за свой счёт, имеются все рекомендации какие надо, горячее желание влиться в наши ряды и продолжать творить-пополнять поэтическую библиотеку своими новыми книгами. Больше того, все трое уже удачно прошли обсуждение в правлении. Раньше проскочили бы без лишних разговоров. Теперь же при тайном голосовании ни один из них не набрал нужных двух третей голосов. Признаться, это даже для меня стало неожиданностью. По крайней мере один из трёх кандидатов, тот, который в возрасте, был несомненно уже сложившимся поэтом, причём уже автором пяти, а то и шести сборников. Тем не менее, всем троим было рекомендовано не опускать руки, творить дальше и после издания следующей книги повторить попытку вступления…
И вот как по разному воспринимают люди один и тот же факт, одну и ту же ситуацию – в зависимости от характера, натуры, воспитания, степени ума и таланта. Все трое, естественно, результатами голосования огорчились (а кто бы не огорчился?), но те двое, что помоложе, ещё и озлобились. Причём обида-озлобленность их почему-то избрала вектор направления явно в адрес председателя: мол, это я не пущаю их в СП. Один в сердцах плюнул на пол (который я шваброй перед собранием драил), заявил, что в гробу он видел нашу организацию и вообще весь Союз писателей и, уходя, хлопнул дверью. Как потом выяснилось, он напрочь завязал с поэзией, начал писать-сочинять боевики об афганских и чеченских кампаниях, успешно издаваться в престижном столичном «Эксмо», на одном из всероссийских совещаний молодых писателей был принят в СПР, пришёл к нам с писательским билетом и благополучно и по праву встал на учёт.
Второй обиженный и озлившийся с кривой усмешкой выдавил в мой адрес с непонятной угрозой, дескать, не всё тебе решать, вышел и напрямки отправился в Москву. Оттуда он вернулся с красным билетом, заявился ко мне в писательскую, торжествующе предъявил и потребовал: ставь на учёт. Я напомнил шустрому товарищу, что подобные вопросы рассматривает правление, чем опять вызвал недовольство и претензии. Все семь членов правления на следующем заседании единогласно проголосовали против постановки пиита с московской ксивой на учёт. Он долго не мог в это поверить – краснел, бледнел, чертыхался. Потом куда-то побежал. Через пятнадцать минут мне на мобильный позвонил влиятельный депутат областной Думы, зампредседателя, и строго-повелительным тоном посоветовал немедленно поставить этого «талантливого поэта» на учёт. Пришлось объяснять чиновнику-депутату, ещё со времён советской власти привыкшего командовать всем и вся, что в правлении у нас семь взрослых людей, вполне уважаемых писателей, и мы вправе сами решить тот или иной вопрос, касающийся нашей общественной организации. Депутат этот тоже в свою очередь обиделся-оскорбился и потом упорно втыкал палки в колёса писорганизации (подлянка со стипендиями, поди, его заслуга), а наш пиит с московским билетом грозился поначалу подать на нас в суд, но в итоге ограничился пасквилем в очередной своей книжке (причём в прозе – поэтического вдохновения видно не накопил), где изобразил меня грязным, оборванным, спившимся попрошайкой, по недоразумению попавшем в председатели писательской организации. Плевки эти грязные цели не достигли и достичь не могли по причине полного несоответствия реальности: умываюсь, моюсь и чищу зубы я регулярно, небритым на улицу не выхожу, в одежде бываю даже франтом (в белом костюме люблю щегольнуть), пить давно не пью и взаймы деньги последний раз брал в те далёкие дни, когда был безалаберным и ещё только подающим надежды молодым писателем. Это наш самозваный пиит где-то до меня или в другом месте таких писпредседателей видел…
И вообще, убийственный пасквиль написать – тоже ведь талант нужен!
Ну а первый из тех трёх кандидатов, Иван Иванович Акулов (уж пора и назвать достойное имя), вернулся с огорчительного собрания к себе в село Петровское, засел вновь за письменный стол, начал работать с вдохновением и удвоенной энергией, выпустил через полгода новый сборник замечательных стихов и поэм, вновь подал заявление на приём и был почти единогласно принят в Союз писателей, стал одним из самых уважаемых, авторитетных членов нашей писательской организации…
А вообще за десять лет при мне было принято в Союз писателей восемь поэтов и прозаиков и за подавляющее большинство из них я и сам при тайном голосовании с охотой отдавал свой голос.
* * *
От природы я, признаться, человек тихий, не агрессивный, никогда сам драки не затевал, скандалить и ругаться не любил, с придурками и хамами всех мастей старался не связываться (себе дороже!), но, как уже упоминалось, когда избрали меня братья-писатели своим лидером-вождём, я готов был в глотку вцепиться, на дуэль вызвать любого, кто говорил при мне плохое о тамбовской писательской организации вообще и каждом из её поэтов и прозаиков в частности. Но всё же поначалу и довольно долго пытался я угомонить недовольных увещеваниями и в личных разговорах и на общих наших собраниях, мол, для недовольства у них нет причин, давайте работать дружно, не суйте с таким азартом палки в колёса – ведь не только председателю, всей организации мешаете двигаться вперёд… Куда там!
Перед очередным отчётно-выборным собранием, поняв-осознав, что новый председатель в общем-то не прочь и на второй срок пойти (а я действительно, можно сказать, во вкус вошёл, уверенность в своих силах почувствовал, да и начатые большие дела на полпути бросать не хотелось), наши милые оппозиционеры, ранее предпочитавшие действовать в основном исподтишка, сбросили забрала и ринулись в открытый бой – вывалили на страницы городской газеты всё накопившееся в прекрасных их душах. Моё терпение лопнуло, решил и я вслед за ними вынести остатний мусор из нашей писательской избы на обозрение читателя-обывателя. Причём, мой ответ врунам-хулителям в той же газетке, несмотря на всю её показную демократичность, так и не появился, так что материал уже с дополнением-предисловием появился в очередном выпуске «Тамбовского альманаха» в сентябре 2008-го, аккурат перед самым отчётно-выборным собранием.
СТРАННАЯ «ДИСКУССИЯ»
Эта неприглядная история случилась недавно – в июне нынешнего года.
Многострадальная газета «Город на Цне», которой решительно не везёт в последнее время с редакторами, решила оживить свои серые страницы странной «дискуссией». Цель её, как было заявлено, – выяснить ни много ни мало: «а есть ли сейчас на Тамбовщине литература»? На деле всё вылилось в обсуждение (осуждение!) работы Тамбовского отделения Союза писателей России. В 4-х номерах газета дала пространные материалы «против» писательской организации (О. Алёшина, А. Митрофанова, А. Акулинина и Н. Веселовской), в одном – два кратких «за» (И. Елегечева и Л. Котовой), при этом неустанно в редакционных врезках подчёркивая свою якобы беспристрастность и объективность.
Любопытно, что завершать «дискуссию» в номере «ГнЦ» от 2 июля должен был официальный ответ председателя правления Тамбовской писательской организации. Статья была сдана редактору Назаркиной лично в руки за 6 дней до выхода номера, корректура была вычитана автором в полосе и, по согласованию с той же госпожой Назаркиной, была внесена небольшая правка. Более того, госпоже редакторше по её просьбе были представлены автором документы, подтверждающие изложенные факты (насколько нам известно, от злопыхателей, поливающих писательскую организацию грязью, таковых бумаг в редакции не требовали).
Ну так вот, после всей этой канители номер вдруг вышел без этой уже набранной и свёрстанной статьи, а совсем с другим откликом – ещё одного хулителя (впрочем, как потом выяснилось, сильно сокращённым-отцензуренным), а в пространной врезке (стилем удивительно напоминавшей стиль одного из диспутантов) редакция беззастенчиво обманывала читателей, будто бы председатель писательской организации со своим откликом опоздал и высказал только своё частное «неинтересное» мнение. При этом «редакция» простодушно упоминала-признавала, что статья председателя была официальным ответом – на бланке организации, с печатью и указанием в подписи должности.
Но самое странное во всей этой истории то, что трое из четверых яростных критиков состояния дел в Тамбовской писательской организации к ней самой имеют отношение весьма косвенное или не имеют его вовсе, хотя и подписываются как «члены Союза писателей России». Но, повторяем, на учёте в Тамбовском отделении СПР они не стоят. Так что поговорка-пословица про «чужой монастырь» и «свой устав» в данном случае подходит как нельзя в тему.
Жаль, конечно, читателей «Города на Цне», которые за свои деньги получили со страниц приобретённой газеты, мягко говоря, необъективную информацию. Но для истинных любителей литературы (а читатели «Тамбовского альманаха», безусловно, принадлежат к их числу) мы восстанавливаем подлинную картину «дискуссии», восполняем пробелы и цензурное своеволие непрофессиональной редакции «Города на Цне».
Само собой, все пасквили «членов СП», мы воспроизводить не будем (зачем же повторять-тиражировать дурь?), тем более, что претензии и «обвинения» в них удручающе однотипны, повторяются и сводятся к трём нехитрым постулатам: 1) писатель Н. Наседкин пишет не «те» романы; 2) такой писатель не имеет права возглавлять писательскую организацию; 3) дела в Тамбовской писательской организации сегодня идут из рук вон плохо.
Мы перепечатываем для примера полностью только «критическое» выступление А. Акулинина из «ГнЦ» от 18 июня (к тому же он полноправный член Тамбовского отделения СПР) и Н. Веселовской из «ГнЦ» от 2 июля с восстановлением авторского заголовка и всех цензурных купюр (к тому же у неё речь в основном идёт действительно о литературе). А также выносим на суд читателей опубликованные заметки И. Елегечева, Л. Котовой из «ГнЦ» от 25 июня (с исправлением опечаток и немногочисленных фактических ошибок), «зарубленный» на корню чересчур «объективной» редакцией отклик З. Королёвой и вынутый из готовой полосы газеты официальный ответ Н. Наседкина.
К сожалению, мы не имеем возможности опубликовать все письма и статьи в поддержку писательской организации, которые поступили в редакцию «ГнЦ», но, конечно, чрезвычайно благодарны авторам за них – спасибо!
Точки над «i»
Вообще-то в интеллигентной культурной среде (данная «дискуссия» публиковалась в газете «ГнЦ» под рубрикой «Культурная среда», и редакция обещала расставить все точки над «i») существует хорошее правило: если на тебя лают собаки, не стоит опускаться на четвереньки и лаять в ответ. На Востоке это звучит мягче: собаки лают, караван идёт. Ну да мы не на Востоке, да и мне, признаться, надоело быть мягким – что называется, достали! Полаю. Ибо задели, облили грязью не столько меня, сколько областную писательскую организацию.
Уважаемая мною интеллигентная газета «Город на Цне» дискуссию о якобы сложившейся в Тамбовском отделении Союза писателей России нездоровой обстановке начала заметкой Олега Алёшина под убойным заголовком в духе 1937-го года «Нам не по пути» (№ 23, 4 июня 2008 г.). В следующем номере наезд на областную писательскую организацию продолжил некий А. Митрофанов. Затем в этот странный «диспут» зачем-то вступил мэтр А. Акулинин и свою странную поварёшку дёгтя в котёл «дискуссии» плеснул-вывалил…
Понятно, что каждый из этих диспутантов смотрит на положение дел со своей колокольни, только, судя по всему, колокольни их (минареты, синагоги) стоят в таких тёмных местах, что оттуда данным господам-товарищам плоховато видно.
Для начала: а судьи кто?
Алёшина именуют-представляют в газете то «литератором», то «писателем», то «поэтом». Увы, эти лестные эпитеты-титулы мало соответствуют действительности. Алёшин в литературе, мягко говоря, – никто, пустое место, ноль. Зато амбиций – на трёх Пушкиных хватит. В 2001 году на региональном семинаре молодых литераторов в Белгороде его приняли в Союз писателей, так сказать, авансом, как подающего кой-какие надежды. Разглядел в нём эти надежды в основном, видимо, тогдашний руководитель нашей писательской организации. За семь минувших после этого лет надежды наш уже почти 45-летний «пиит» материализовал в 40-страничный сборничек стишков «Антоновы песни» размером с записную книжку, изданный за счёт автора. Всё. О каких-либо достоинствах «поэзии» речи вообще нет: думается, ни сам Алёшин, ни его опекун Акулинин, ни читатели-родственники не считают эту стихотворную брошюрку поэтическим достижением.
Признаться, когда Олег подал заявление о выходе из состава Тамбовской писательской организации, я чуть было не зауважал его: ну, подумал, проснулась совесть у парня, понял, что ни с какого боку не соответствует он званию писателя, самому надоело играть роль балласта в творческой организации… А оно вон чего: ему, оказывается, с другими – настоящими – писателями не по пути, мелковаты они для него в качестве попутчиков!
С г-ном Митрофановым сложнее: он у нас – «гимнюк» (словечко-эпитет Твардовского о Михалкове) местного розлива, да и книжечек настрогал поболее и повесомее. Но здесь другая запятая: дело в том, что г-н Митрофанов к Тамбовской писательской организации отношение имеет весьма и весьма косвенное. На общем собрании однажды рассматривалось заявление самодеятельного поэта-сатирика Митрофанова о приёме в СП. При тайном голосовании из 24-х необходимых голосов (2/3 от 35 членов писательской организации) сей господин набрал всего 14 голосов «за» и 21 «против», так что в приёме ему было отказано. Вместо того, чтобы в соответствии с Уставом СП и Правилами приёма дождаться выхода следующей книги и повторить попытку, как это делали до него многие другие, Митрофанов нашёл обходные пути и, спустя время, принёс в правление Тамбовской организации готовый писательский билет, выписку из решения о том, что его якобы приняли в Союз писателей в Москве (хотя там всего лишь утверждают решения по приёму региональных собраний и всероссийских семинаров), и потребовал поставить его на учёт. Естественно, единогласным решением всех семи членов правления ему в этом было отказано. Ведь подавляющее большинство тамбовских писателей ясно заявили, что не считают его профессиональным литератором-коллегой, да ещё он Устав и правила нашего «монастыря» соблюдать с первых шагов не собирается, а надо же – просится, требует: возьмите меня к себе в сотоварищи, я хочу с вами жить и работать. Теперь же вот и вовсе придумал через газету со своим уставом в чужой монастырь вломиться – диктовать начал: кого нам в настоятели избирать, какие книги издавать, каким богам молиться…
Бред!
С Акулининым случай и того сложнее. Александр Михайлович до этого десять лет возглавлял писательскую организацию, и вот почти пять лет назад, опять же подавляющим числом голосов, тамбовские писатели вместо него избрали другого. И седобородый человек, право слово, как ребёнок, никак не может пережить ту «обиду», организовывая и подогревая немногочисленную оппозицию в писательской организации. Ну только представить себе, если б после последних президентских выборов В. В. Путин взялся всячески мешать вновь избранному Президенту, начал собирать оппозиционные группировки на своих домашних «средах» или «пятницах», писать в газеты «обличительные» статейки…
Впрочем, сравнение-аналогия несколько хромает: Владимир Владимирович передал Дмитрию Анатольевичу страну-хозяйство на подъёме, а наш Александр Михайлович довёл писательскую организацию до того, что она, по образному выражению одного из старейших тамбовских писателей И. Елегечева, «лежала на боку». Достаточно сказать, что она даже не была зарегистрирована и являлась по сути самодеятельным литературным кружком, таким же, как пресловутая акулининская «Литературная пятница».
Новое правление не только осилило-осуществило эпопею регистрации Тамбовского регионального отделения ООО «Союз писателей России», но и возродило Тамбовское отделение Литфонда, без которого писательская организация, может быть, и не выжила бы. Новое правление создало-открыло при Литфонде писательское издательство, которое уже прочно завоевало репутацию самого профессионального издательства в Тамбове. Основано и начало регулярно выходить издание по типу толстого журнала под названием «Тамбовский альманах»… Новому правлению удалось «пробить» творческие стипендии, о чём ранее тамбовские писатели и не мечтали. Писатели-юбиляры теперь благодаря хлопотам правления получают по 30 тысяч рублей на издание книги и материальную помощь в 5 тысяч. Возродились массовые литературные праздники, вечера, презентации новых книг. Об активной работе Тамбовской писательской организации из номера в номер пишет-сообщает столичная «Литературная газета», ставя нас в пример другим регионам…
Ну да Акулинину со товарищи всё это преотлично известно. И все их недовольства-претензии смехотворны. Недовольны, к примеру, что стипендий на всех не хватает? Но ведь три года их получали в Тамбове только писатели, и ещё в прошлом году их хватало на всех, в том числе и на упоминаемого Остроухова и самого зачинщика бузы Алёшина. Разве есть вина правления писательской организации в том, что администрация области с этого года его почин распространила на все творческие союзы, и теперь, естественно, 50-ти стипендий на всех писателей, художников, артистов (человек 200!) не хватает.