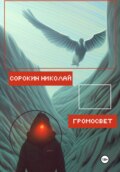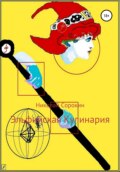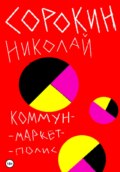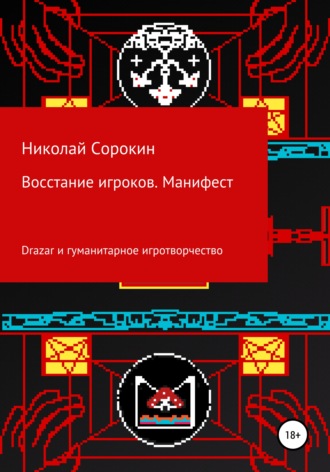
Николай Максимович Сорокин
Восстание игроков. Манифест
И так, можно-ли ответить на вопрос: «почему именно лошадь ходит буквой «г»», если для абстрактной игры не имеет никакого значения как обозначать фигуры (главное не путаться), а потому эту самую «лошадь» можно поставить в качестве «короля». Возразят, что «шахматы» про войну. Тогда можно заменить все фигуры кроме «короля» на разноцветные пасхальные яйца, от того шахматы не убудут в своей идее, но по своей сути исчезнет… То, что исчезнет есть «эстетика», и именно она и определяет почему шахматные фигуры выглядят так, а не иначе. Фигура коня эстетически соотносится с ходом фигурой буквой «г», и поэтому конь не заменим на обыкновенный красный куб, хотя по факту сама эстетика шахмат может сохраниться.
Эстетика, поэтому, главная опора для игротехника гуманитарного склада ума, а сама игра, обладающая не только внутренней логикой игры, но и эстетикой компонентов игру сопровождающих, собственно тех, кого именно идея игры приводит в движение посредством игроков, есть игра игротехнического гения. Найти «носителя эстетики» в чистом движении абстрактной фигуры также непросто, как обозначить механики для эстетического объекта, а потому незаменимого для игры.
И так, о проведённой работе мудрого игротехника (будь это человек или общество) можно судить из того, как некоторая идея находит своё игровое отражение в сочетании игровой логики и эстетики, прямо к идее относящейся. Логично, что для того чтобы «дойти от точки «А» в точку «Б» нужно идти в правильном направлении, а именно соблюдая условие задачи: от «А» до «Б». Эстетично, что для того чтобы «дойти от дома до метро», нужно не только логично пройти от точки «А» до точки «Б», но ещё и перенять целый комплекс каких-то особых, вне-математичных переживаний по ходу дороги: и неожиданные встречи, и переживания, и погода, и т.д. Получаемая игра таким образом в своём наблюдении и игрании породит целый комплекс созерцаемых идей из первоначальной идеи «поход до метро»: в зависимости от того какой эстетикой будет наполнена игра и как она прямо будет соотноситься с логикой игры.
Тесным «союзником» для всякой игры является «миф»: строго по той причине, что и миф, и игра суть явленные в мир обналиченные идеи. Если миф в трансценденталистском понимании А.Ф. Лосева: «есть в словах данная чудесная личностная история»3, – то игре же в целом не обязательно иметь личность как некоторую живую сущность. Данное положение было явлено из стихии «подражательных» и «ролевых» игр, где «роль» включает в себя только социальный элемент, а «подражание» – всё вне социума; можно подражать и воде, и музыкальному произведению подражающему воде, и исполнителю музыкального произведения подражающему воде и т.п.
Традиционные магические ритуалы в явленной формуле Б. Малиновского «миф, заклинание, ритуал» есть ничто иное как игра подражательная, а не ролевая. Мало того, в целом если исходить из установок сугубой рациональности «примитивного» человека, что стоит помнить в рассуждении о магии, можно здесь заверять, что, подражая мифу, даже если миф рассказывает сугубо об актуальных социальных отношениях, магически мы понимаем, что всё вне-ролевое образует роль: и журчание тех же вод, и пение птиц, и сияние Солнца, и всякое животное рядом формирует представление об обществе примитивного человека как прежде всего личностное-вне ролевое, особенно если рассуждать о «священных» мифах, которые непременно участвуют в обрядовой жизни всякой «племенной» и «родоплеменной» группы. Приводя и далее труд Малиновского: «По Дюркгейму религия социальна, ибо все её Истины, её Бог или Боги, сам Материал из коего она создаётся – всё это ничто иное, как обожествлённое общество. <…> Однако неужели примитивной религии неведомо одиночество? Например обряды инициации говорят об обратном. А сущность морали основана на совести»4; и в это же время: «Во всех примитивных обществах магия и выдающаяся личность идут рука об руку»5; «Общество, являющееся хранителем светских традиций, мирского, не может быть воплощённой религиозностью, или Божеством»6.
То есть «символические интеракции», что происходят в процессе ролевой коммуникации, не отражают тех же процессов, что происходят в процессе коммуникации личности по отношению к миру как личности, особенно в процессах созидания такого мира. Созидательная сила суждения каждой личности выявляет из мира те идеи, которые в ролевых играх переосмыслить без личностного фактора невозможно; можно переосмыслить «плохих» разбойников приведя в пример Робин Гуда, но «разбойник» как социальная роль останется разбойником, – в ином случае это не разбойник. Не обязательно говорить здесь о морали, – например можно переосмыслить, что разбойники не только обитают в лесах, но и ходят по морю. А можно переосмыслить, что море это находится в лесу, или в космосе, или под землёй, и т.д. Точно также не переосмысляемы и «плотники», – однако из этого не следует, что за «плотником» не стоит личности; потому «играть» в плотника есть симулировать или репрезентовывать плотника, если не выходить за пределы его мастерской (конечно, мастерской именно плотника, а не игротехника, или кого ещё). Здесь лежит ключевой момент: если логика плотника и эстетика плотника прямо соотносится с теми «откликами», которые формируют этого самого плотника, то можно говорить о симуляции. Однако играть в «индейцев», например, в России, – это именно играть, а не репрезентовывать, так как мифологическое мышление индейцев не сформировано пространством России. «Хорошо», – скажите вы, – «а как же шаманы, что есть и на территории России, и на территории Америки?». Отвечаю так: у шаманов не было ни «американских», ни «российских» школ, и потому если в России «играть шаманов», то непременно нужно быть ни в российских лесах, а там, где шаманов не было: в тех же самых школах, например. Здесь я ответственно заявляю, что «шаман» в своей социальной идее и по своим социальным функциям (то есть его «роль») остаётся шаманом вне зависимости от пространства (учитывая шаманские практики путешествий), НО шамана, причём шамана современного, то есть неизменённого носителя традиции в эпоху хоть индустриализации, хоть пост-индустриализации, не могло возникнуть нигде, где его не могло возникнуть, хоть, например, в Италии, хоть в Московской общеобразовательной школе. Ни то, ни другое своим пространством (то есть своей личностью в эстетическом и логическом комплексах) не породило шаманов, и потому «вынуть» социальный феномен и поместить его в пространство ему несвойственное – чистая идея синкретики ролевых и подражательных игр: мы не можем сказать что бы было тогда-то (и вести себя сообразно собственным знаниям, а не представлениям), потому можем только репрезентовать известную нам социальной роль в своей «естественной» среде в среде ей неестественной, и то лишь до тех пор, пока наши знания о поведении в старой среде находят отклик в новой среде. И когда такие отклики наших знаний оканчиваются, мы или развиваемся как личность через призму нашей репрезентуемой роли, или завершаем репрезентацию, то есть не переступаем порог симулирования, а потому в принципе не начинаем играть.
Собственно, поэтому здесь и говорится: в ролевых играх личность есть такая роль, что реализует себя далее собственных социальных рамок («расширяя» пределы роли за счёт личностного развития), при этом не сменяя саму роль. Только по той причине, что каждому из игроков известно, что игроки играют, такое «ролевое-личностное» понимание игры всё-таки является пониманием ролевым, так как «игрок» прежде всего есть социальная ролевая модель: поэтому ролевые игры объективно называются «ролевыми», а не ролёво-личностными, хотя внутриигровой элемент такой игры сугубо «подражательный», а не «ролевой»; поэтому только в одиночных играх игрок перестаёт быть ролью, и является личностью.
Одиночная же игра ребёнка, что ведёт речь о собственных родителях, прежде всего есть чистое подражание без социального «игрового» статуса, так как без коллективного переживания такую деятельность нельзя назвать «ролевой» игрой, а потому не может возникнуть в пределах деятельности «социальных символов» символического интеракционизма: стоит вспомнить хотя бы миф об Одине, кто в одиночку постиг руны, то есть письменную символику, что священна и значима, очевидно, не потому что она возникла в пределах общественной коммуникации как типичный «значимый» язык.
О чистом подражании ребёнка далее: ребёнок помещает своего отца в пределы собственного тела (как «шамана поместить в школу») и подражает предположительному поведению собственного отца в чужом (своём) теле, или ребёнок помещает именно «роль» отца в пределы собственной личности и сам пытается реализоваться как личность через рамки новой, «отцовской» роли. Можно увидеть таким образом, когда игрок вселяется в чужую роль, а когда эту роль помещает в чуждое ей пространство. Установимые созиданием выводы о чужом опыте «подражательной», то есть одиночной, а не «ролевой», то есть коллективной игры, отразят собой чистую идею, непременно данную в истории; а потому одиночные подражательные игры являются мифотворческими ресурсами, и, как следствие, компонентами для традиционной магии: причём не только в качестве мифа, но и косвенно, то есть путём подражания полученному мифу, в качестве «ритуала». «Роль» здесь есть идея, причём именно как «роль развития личности в ролевой игре». В искусной ролевой игре поэтому сама личность суть «дайс» («пирамида», «куб», и т.д.) с неограниченным, динамично-сменяющимся числом граней по отношению к выпадению тем ситуациям, на которые ролевые, то есть социальные границы не могут ответить, а потому предопределить реакцию личности, его поведение, и поэтому его становление: азартные игры поэтому с ограниченным числом выпадений очень органично вписываются в неограниченные выпадения личностных реализаций; только неоднократное переживание одного и того же личностного становления отвечает за игровую стратегию, но в отличии от математической модели, неоднократно одной личности попасть (не «организовать» как правоохранительную практику, а самому стать участником) в ситуацию «дилеммы заключённого», – вопрос неисчислимого множества вероятностей.
Положения приводимые ранее здесь раскрываются заново: 1) причинно-следственное воздействие одушевлённого объекта на неодушевлённый, то есть суть азартная игра; 2) причинно-следственное воздействие одушевлённого объекта на одушевлённый объект, – то есть суть ролевая игра; 3) мистическое, то есть непостижимое разумом или неустановимое причинно-следственно воздействие некоторого фактора на одушевлённый или неодушевлённый объект, – суть подражательная игра, если ввести то уточнение, что всё высказанное здесь стоит понимать как неопределённую вероятность личностного становления по отношению к идее обналиченно-облачённой в форму вне своей формы, как то же «журчание воды» без самой воды и без самого журчания, то есть вне своей, но в иной, например, музыкальной форме. Здесь же делаем вывод: подражательные, ролевые и азартные игры суть игры родственные и взаимодополняемые. Так как мир существует во времени, причём в мире одновременностей, всякому постоянно выпадает всякое, и потому даже «выпадение» реакции суть материал азартной игры, в которой можно заявить условия «победного выпадения» и назначит ставку; только по той причине, что игрок участвует в игре коллективно, «счастливое выпадение» заменяется на ролевое взаимодействие, однако одиночная, «подражательная» деятельность, – то, что случилось после выпадения какого-то значимого события случая.
Есть же и то, что существует вне времени: известно, что «5<6», и вне времени так будет всегда. Также известно, что сильный сильнее слабого, ловкий ловчее неловкого, а чёрный чернее белого. В рамках таких вневременных положений известно, что у кого больше, за тем и победа, а значит для того чтобы одерживать победу, требуется чтобы было чего-то более. Только по той причине, что эти вневременные положения входят в мир одновременности мы говорим, что игрок, одержав своим мастерством победу необязательно победит ещё раз, как бы ни хотелось всякому спортсмену уверить в обратном, – этого можно было бы избежать, сохранив традицию обожествления статуса чемпиона, возводя единственную победу в абсолют; можно вспомнить что случалось с такими абсолютными победителями в мезоамериканских играх с мячом и согласиться с тем, что такой исход лучше чем постоянно доказывать собственную мастерскую неповторимость, или смириться с тем, что во времени счастливый случай более числа определяет победу, а число более определяет победу вне времени чем счастье: поэтому о подражательной деятельности и говорится, что это то, что случилось после выпадения какого-то значимого события: мы уже имеем шестёрку, если данного выпадения для победы недостаточно, то мы переходим во вневремение и созидаем идею: если при этом правилами предопределено что именно приведёт нас к победе (ведь для игр необязательна победа), то созидать такую идею игры мы будем только по отношению к победе.
Тем менее победа имеет свою значимость в идее, чем более игра проистекает в одновременности без подражательного, то есть одиночного экзистенциального акта созидания: поэтому написание музыки (конечно «подражательно», нежели по-методичке, например, «хитовой» музыки, не говоря уже о чистом плагиате) есть подлинный акт созидания, где «написал» значит подлинно «победил»; играние же написанной музыки вообще победы не имеет лишь только по тому, что в одновременности игры акта созидания нет (конечно если актор проигрывающий произведение не озаботился об эстетике вне-партии лично: не сам выбрал место исполнения, не сам выбрал композицию, не сам озаботился окружающими ароматами, визуализациями, и т.п.). Подлинная победа есть победа становления личности, поэтому невозможно сравнить между собой два разных произведения на одну тему или идею (если те не созидались по каким-то внутренним правилам определяющих мастерство жанра), так как каждая такая подлинная победа есть победа абсолютная; лишившись созидания и, как следствие, идеи подлинной победы, человечество получило чистый «спорт». При этом стоит помнить, что «спорт» и «физическая культура», хоть на примере «шахмат», хоть на примере киберпространственной «доты», суть явления друг друга необязующие.