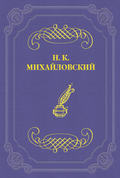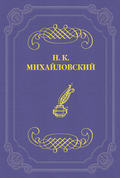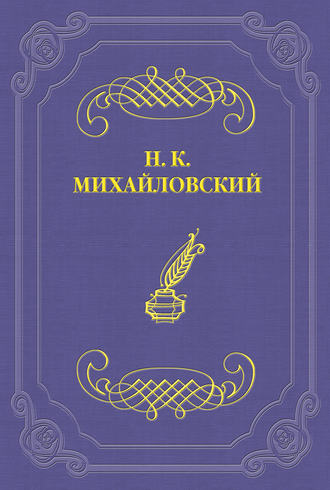
Николай Михайловский
Еще о Ф. Ницше
Мы уже знакомы с необузданным эгоизмом Штирнера и приводили его образчики. Напомним их, потому что в них заключается в зародыше весь настоящий «имморализм» Ницше. Штирнер знает, что есть силы сильнее его и вообще всякого я, но, признавая эту силу как факт, он не хочет признавать ее как право, и в то же время утверждает, что право есть сила. Сократ оказал слабость, признав за афинянами право над ним, и они поступили с ним по праву, потому что оказались сильнее его. Я имеет право на все, но чтобы осуществить это право, я должен пустить в ход силу – силу ума, силу физическую, силу хитрости, как придется. Главное же дело в том, чтобы освободиться от почтения к разным фантомам, от преданности «шпукам», убедиться, что их в действительности совсем даже нет, что это только создания извращенного человеческого духа. «Я решаю вопрос о праве; вне меня нет права. Что по моему право, то и есть право. Возможно, что другие не признают за мной этого права; это их дело, а не мое: пусть действуют. И если бы весь свет не признавал за мной того права, которое признаю я, то я не посмотрю и на весь свет. Так поступает всякий, кто умеет ценить себя, поскольку он эгоист, ибо сила первенствует над правом – и притом с полным правом». И в другом месте: «Тебя свяжут! – Мою волю никто не может связать. – Но ведь наступил бы полный хаос, если бы каждый мог делать все, что хочет! – Кто же говорит, что каждый может делать все, что хочет? Кто хочет сломить твою волю, тот тебе враг, так с ним и поступай».
Рассуждение вполне логичное, слишком логичное, слишком голологичное, и Ницше под ним целиком не подписался бы. Читатель сам увидит почему. А теперь обратим внимание на ту аристократическую струнку, которая слегка звучит в рассуждении Штирнера о суде над Сократом. Всякое я полноправно и все они равноценны. Но вот я Сократа как будто и подороже стоит, чем другие афинские местоимения первого лица.
Сократ оплошал и за это по праву поплатился, но он все-таки человек особенный, «выдающийся», «необыкновенный» и в качестве такого именно не должен был признавать право суда над собой. Ведь мало ли кого афиняне судили, но не всем же им претендовать было на место в Пританее. Очевидно, я «выдающихся», «необыкновенных» людей имеет какое-то преимущество в глазах Штирнера, какое – неизвестно, ибо, как мы уже говорили, книгу Штирнера надо считать недоконченною. Ей недостает положительной части, которая у Ницше есть. Есть у него и дальнейшее, до последней степени резкое развитие той легкой аристократической струнки, которая у Штирнера звуцит едва ли только не в одном приведенном месте о Сократе.
«Ценность эгоизма, – говорит Ницше (Gotzendammerung, 98), – зависит от физиологической ценности его носителя: она может быть очень велика, а может быть и совсем ничтожна и Презрительна. Каждый отдельный человек должен быть рассматриваем с той стороны – представляет ли он собою восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса и даст меру ценности его эгоизма. Если он представляет подъем линии, то его цена высока и ради всей совокупности жизни, которая делает с ним шаг вперед, он должен быть обставлен наилучшими условиями. „Индивидуум“, как его до сих пор понимали толпа и философы, есть заблуждение; он не атом, не „звено цепи“, он – целая линия человека вплоть до него самого. Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, заболевание (болезни, вообще говоря, суть следствия упадка, а не причины его), то цена ему малая, и элементарная справедливость требует, чтобы он возможно меньше отнимал на свою долю у лучших; он только их паразит».
Во имя личности Ницше требует отчета у всех реальных и идеальных форм общественности и горячо протестует против обращения ее в «орудие», функцию, орган какого бы то ни было целого; личность во всей полноте ее сил и потребностей противопоставляет он всем стихийным силам природы и истории вплоть до мирового процесса в целом и до трагического конца самой личности, если бы таковой оказался неизбежным. Но затем оказывается, что личности не равноценны и что есть какое-то целое, – «совокупность жизни», das Gesammt-Leben, – в интересах которого должна производиться расценка личностей: кто лучше может этому целому послужить, тому и цена большая, а кто послабее, тому и цена поменьше и житейская доля похуже. Этим в корене подрывается исходная точка Ницше. Что люди, конкретные личности, не равны между собою не только по своему общественному положению, но и по своим силам и способностям, – это мы все очень хорошо знаем. Но вопрос не в этом слишком несомненном стихийном факте и даже не в том, что «ина слава солнцу, ина слава луне и звезда от звезды разнствуют во славе». Разумеется, – «ина», разумеется, – «разнствуют». Вопрос в принципе, на основании которого мы устанавливаем или должны устанавливать эти различия и производим или должны производить эту расценку. В практической жизни это дело чрезвычайно сложное и запутанное. Оставляя в стороне личные привязанности и отвращения и национальные, сословные и профессиональные предрассудки, широкою волною вращающиеся обыкновенно в нашу расценку людей, мы все же получим нечто очень сложное. Человек большого ума и исключительных дарований, раздвинувший наши теоретические горизонты, «насытивший кристалл очей» наших дивными художественными произведениями, или словом или музыкальными звуками поднимающий в нас волну лучших чувств, обогативший человечество благодетельным открытием или изобретением, – может оказаться слабым, ничтожным, дрянным характером. Увы! это слишком часто случается. Мало того, большой ум и редкий талант, которых мы не можем не ценить высоко, как силу, бывают направлены на дела, которые мы, по тем или другим соображениям, опять же не можем не ценить крайне низко, даже отрицательно. Наоборот, маленький во всех других отношениях человек может таить в себе, а при случае и обнаруживать такую нравственную мощь и красоту, перед которой мы поневоле должны почтительно снять шапку. Но ее столь же почтительно можно снять перед обыкновенным рядовым работником на деле, которое мы считаем важным, нужным, святым. Таким образом, не только звезда от звезды разнствуют во славе, но и в самих-то звездах лучи славы и бесславия переплетаются в очень разнообразных комбинациях. Если мы введем сюда физиологический элемент, указываемый Ницше, то он не только не устранит этой сложности, но еще введет новые осложнения. Посетитель цирка или балагана, любующийся атлетом, рабовладелец, выбирающий на рынке здорового, сильного, выносливого раба, ввиду своих частных целей, конечно, ценят этого атлета и этого раба выше больных и слабых, и они правы с своей точки зрения. На что бы им годился галлюцинант Сократ, эпилептик Магомет, хилый Вольтер, слабогрудый Шиллер, больной Ницше? Но люди, получившие от этих больных и слабых известное возбуждение, хотя бы только в видах пересмотра своего умственного и нравственного багажа, конечно, без дальних размышлений дадут им более высокую оценку, чем тысячам здоровых и сильных.
Без дальних размышлений… Но Ницше вводит нас именно в область дальних размышлений. Он предлагает общий принцип, в котором тонут как частные, незаметные глазу мелочи, цели рабовладельца, посетителя цирка, или читателя сочинений Вольтера и его самого, Ницше, или общественного деятеля, занятого каким-нибудь житейским вопросом. Он указывает общий руководящий принцип, и уж наше там дело прикидывать его к житейским частным случаям. Притом же приведенная из «Gotzendammerung» цитата есть в известной степени lapsus calami (до известной, однако, только степени). Из совокупности его сочинений видно, что высокой оценке подлежит не только физическое здоровье, но и духовная энергия. Но все-таки почему же какая-то «совокупность жизни» является вершительницей судеб и определительницей ценности личности? И почему эта самая личность, индивид, который ест и пьет, болеет и радуется, родится, растет и разрушается, которого мы обнимаем в лице брата, друга, сына, любимой женщины, которого, наконец, сам Ницше так оберегает от всякого ущерба, – почему он оказывается даже не существующим? Он – не он, а какая-то линия, восходящая или нисходящая; он – предрассудок «толпы и философов». Относительно философов Ницше несколько ошибается, упрекая их в этом предрассудке. И прежде бывали временами, и теперь опять объявились философы, вполне свободные от этого предрассудка и решительно утверждающие, что всеми видимого, осязаемого и в свою очередь видящего, осязающего, чувствующего индивида нет, а если он и существует, то на него не следует обращать внимание. Но меньше всего можно бы было ожидать такого оборота мысли от Ницше. Он ведь так негодует на то, что «сознательно или бессознательно люди стремятся ни больше, ни меньше, как к полному пре-образованию, и именно ослаблению, даже уничтожению индивидуума» (Morgenro_the, 127). И вот Ницше сам накладывает на него руку во имя «совокупности жизни», которую Штирнер, не обинуясь, назвал бы таким же Spuk, фантомом, как все прочие, в том числе и те, с которыми борется сам Ницше. Конечно, Штирнер груб и узок, и из его я мудрено бы было логически вывести какое-нибудь мерило ценности людей, не прибегая опять же к какому-нибудь неожиданному фантому, как это случилось с Ницше. Но исходная точка Ницше допускала и даже навязывала иной выход, а именно: если личность есть самоцель, не подлежащая низведению на степень средства для достижения какой бы то ни было другой цели, то мерилом ценности людей может быть лишь размер их службы этому принципу. Здесь не место входить в подробности и практические применения, да и нет резона распространяться о том, чего Ницше не сделал, когда мы еще далеко не покончили с тем, что он сделал.