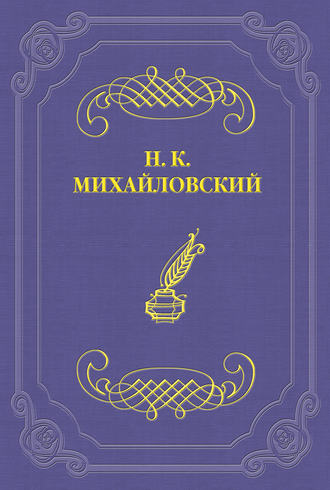
Николай Михайловский
Еще о Ф. Ницше
* * *
Ницше мог бы смело подписаться под этой тирадой. Он как бы является именно предсказанным ею «джентльменом с неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией», который предлагает «все это благоразумие» столкнуть к черту и начать с «переоценки всех ценностей». Среди современной уверенности, что нравственная истина найдена научным путем и состоит в «благоразумно выгодных добродетелях»; что человек есть по природе своей существо преимущественно мыслящее или созерцающее, или же преимущественно «возделывающее, поядающее, купующее и куплюдеющее»; среди этой уверенности раздается вдруг голос не сомнения, а такой же, но бурной и страстной уверенности, что совсем не такова человеческая природа. Протест этот, если разуметь под ним призыв к пересмотру разных односторонних и в односторонности своей слишком самоуверенных решений о существе человеческой природы, заслуживает полного сочувствия: слишком часто решения эти, не будучи не только надлежащим образом проверены, но даже сколько-нибудь серьезно затронуты критикой, кладутся в основание широких обобщений и важных практических выводов. Но, кроме этой отрицательной стороны, в приведенных взглядах Ницше, равно как и героя «Записок из подполья», есть еще и положительная, а именно – коренными свойствами человеческой природы объявляются властность и жестокость. Несомненно, что те мрачные глубины жестокости, безграничного властолюбия, злобы, в которые так любил заглядывать Достоевский и которые теперь теоретизируются Фридрихом Ницше, действительно существуют и представляют собою высокий интерес для исследователя человеческого духа, но духа больного, расстроенного; это случаи патологические. Такое возражение нимало не смутило бы Ницше, потому что он убежден, что в том именно и состоит заблуждение современной морали и современной мысли вообще, что они считают нормальное патологическим, а больное – здоровым, нормальным. Как бы, однако, ни были остроумны попытки Ницше свести все поступки людей, все мотивы этих поступков к эгоистической основе, он понимает, что во всяком случае его жестокий, властолюбивый, наслаждающийся чужими страданиями и чужим унижением эгоист – не есть общее правило. Существуют же люди мирные и смирные, добрые и кроткие, не говоря уже о разнообразных вариациях и того сильного, смелого, деятельного типа, которому Ницше усваивает жестокость, злобу и властолюбие, как основные черты характера. С точки зрения Ницше, эти кроткие, мягкие, добрые, сострадательные люди должны быть, конечно, тоже эгоистами. Но это – эгоисты, частию неразумные, частию напротив, очень разумные, даже слишком разумные, но и в том и в другом случае придавленные и укрощенные процессом цивилизации или, если угодно, «обобществления». Они жмутся друг к другу, чувствуя свое слабосилие, подкупают друг друга похвалами этому самому слабосилию, возводя его под разными именами на степень добродетели, и наконец успевают уверить друг друга, что их слабость, дряблость, бессилие, трусость, выражающиеся в желании возможно мирного и безопасного жития, действительно заслуживают названия «добредетели», нравственно одобрительных мотивов и поступков. Так, по мнению Ницше, возникают и окружаются ореолом высшей морали понятия самоотречения, любви к ближнему, сострадания и проч. Если людям это-го типа случается отклониться от созданного их слабосилием нравственного кодекса, в них поднимаются угрызения совести. Но то бурное клокотание первобытных нормальных инстинктов, не находящих себе правильного исхода, которое, как мы видели, выражается самоистязаниями аскетов, осложняется у так называемых «добрых» (ироническое или бранное слово в устах Ницше) людей простым страхом ответственности, боязнью опасных последствий, то есть все тем же слабосилием. Торжество этого слабосилия и составляет столь занимающую Ницше «проблему декадентства».
* * *
Со времени Руссо никто в Европе не говорил таких дерзостей европейской цивилизации и современному «прогрессу», как Ницше, если не считать его предшественника, Макса Штирнера, слишком одинокого, слишком мало расслышанного в свое время, да и только бросившего недоразвитый зачаток оригинальной мысли. За этим ничтожным по своей мимолетности и незаконченности исключением, все сколько-нибудь значительное в деле отрицательной критики цивилизации и «прогресса» так или иначе примыкает к Руссо, как к первоисточнику или первообразу. Это одинаково относится и к европейским социалистам, с включением самых крупных, как Фурье, и с другой стороны, например, к гр. Л. Н. Толстому, критику новейшему, некоторые оригинальные выходки которого не мешают всей отрицательной части его учения оставаться все же таки вариациями на основную тему, данную Руссо. Ницше вносит в свою критику нечто действительно оригинальное и новое, что никоим образом не может быть приведено в связь с идеями Руссо, которого он «ненавидит» и называет «идеалистом и канальей в одном лице» (Gotzendammerung, 125). Это не мешает ему, впрочем, в некоторых пунктах сходиться с Руссо, чтобы, однако, немедленно же, на втором же шаге резко разойтись.
В одном месте «Gotzendammerung» Ницше говорит о своих соотечественниках: «Немцев называли когда-то народом мыслителей; мыслят ли они вообще теперь? Духовное наскучило немцам, немцы не доверяют духу, политика проглотила всякий интерес к истинно духовным предметам. „Deutschland, Deutschland uber Alles“, – я боюсь, что это было концом немецкой философии. Есть ли в Германии философы? есть ли в Германии поэты? хорошие книги? – спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, не покидающею меня в самых отчаянных положениях, отвечаю: да, – Бисмарк» (59). Конечно, не эту забавную выходку имел я в виду, говоря о дерзостях Ницше; я привел ее только как свидетельство того уважения, которое Ницше питает к мысли, к умственной деятельности вообще. И таких свидетельств можно бы было найти у него очень много, если бы понадобилось. Но в этом, конечно, надобности нет: иного отношения к мысли, знанию, умственным интересам нельзя было бы и ожидать со стороны представителя умственной деятельности. Недаром он постоянно включает себя в формулы: «мы философы», «мы психологи», «мы познающие». А между тем тот же Ницше жестоко упрекает современность в том, что она слишком много мыслит и знает, слишком много хочет мыслить и знать, и видит в этом излишестве одно из оснований «проблемы декадентства». Это уже на-стоящая дерзость, напоминающая одну из знаменитых дерзостей Руссо, но в совершенно ином освещении.
Человечество, по крайней мере цивилизованное человечество, находится, по мнению Ницше, в периоде упадка, декаданса. Вступило оно в него давно и притом несколькими различными путями. Один из этих путей начинается Сократом. Это был первый в своем роде крупный человек упадка, первый декадент или, вернее, первый крупный выразитель уже наступившего упадка.
Мысль эту Ницше с некоторою робостью или, по крайней мере, не с полною определенностью высказал еще в 1872 г., в своем первом сочинении, «Geburt der Tragodie», и вернулся к ней в окончательной форме через семнадцать лет в «Gotzendammerung». Мысли Ницше так разбросаны и переплетены между собой, что кое-что из его рассуждений о личности Сократа и его исторической роли станет, может быть, понятно читателям только в связи с некоторыми другими его мыслями, с которыми мы познакомимся позже.
Мудрецы всех времен приходили к тому заключению, что жизнь ничего не стоит, и даже Сократ, умирая, сказал: «Жить значит долго хворать». Откуда этот consensus sapientium в деле уныния, меланхолии, усталости, недовольства жизнью? И должны ли мы ему верить? Первый вопрос важнее, потому что ответ на него может упразднить второй. Может быть, ведь мудрецы просто сами не твердо на ногах стояли. Может быть, мудрость появилась на земле подобно ворону, почуявшему легкий запах падали. Надо поближе присмотреться к мудрецам. Сократ был низкого происхождения и, как известно, физически уродлив, что в Греции было больше чем недостаток. С другой стороны новейшая уголовная антропология приходит к заключению, что физическому уродству соответствует и нравственное: monstrum in fronte, monstrum iu animo. He был ли Сократ тем преступным типом, которым ныне так много занимаются? Этому по крайней мере не противоречит один любопытный эпизод из его жизни. Какой-то иностранец физиономист, встретив его в Афинах, сказал ему в лицо, что он носит в себе все гнуснейшие пороки и страсти. И Сократ признал справедливость диагноза физиономиста. Припомним и те галлюцинации слуха, которые известны под именем «Сократова демона». Всегда с камнем за пазухой, с задней мыслью и иронией, осложненной «злобностью рахитика», Сократ всем существом своим должен бы был отталкивать от себя сограждан-современников; тем более, казалось бы, что он изобрел уравнение: «разум = добродетель = счастье», каковое уравнение противоречит всем инстинктам древних эллинов. Но он, напротив, привлекал, очаровывал. Он сумел ввести в моду дотоле презиравшуюся диалектику и публичное зрелище фехтования исключительно умственным, логическим, теоретическим оружием. Он сумел сделаться необходимым человеком и был действительно необходим, как яркое выражение разложения, упадка эллинизма и как великий врач, открывший, и по его собственному мнению, и по мнению других, радикальное средство против болезни века. Вышеупомянутому иностранцу физиономисту он ответил, что тот угадал, признав его вместилищем низменных похотей и пороков, но – прибавил он – я над всеми ими властвую. В этой реплике, вместе с уравнением «разум = добродетель = счастье», лежит ключ к пониманию как личности Сократа, так и его исторической роли. Не один Сократ болел неуравновешенностью инстинктов, их взаимною противоречивостью, не один он чувствовал потребность взять себя в руки, но он представлял собою яркий, привлекавший всеобщее внимание образчик этого состояния, этого недоверия к себе, и он же указал исцеляющее и дисциплинирующее начало в разуме. Но это указание уже само по себе было симптомом упадка. Плохо стояло дело Греции, если пришлось призвать тирана – разум, чтобы подавить им все естественные, бессознательные влечения, если понадобилось жить с постоянною оглядкою и расчетом на основании уравнения: разум = добродетель = счастье. Это было последнее, отчаянное средство: грекам оставалось или погибнуть, или отдать всего человека под тиранический контроль разума. Но эта разумность во что бы то ни стало является в свою очередь новою болезнью, новым признаком упадка. Сократ был величайшим из обманщиков, но не злонамеренным, потому что и сам себя обманывал. Человек с совершенно исключительной натурой, обуреваемый страстями и пороками, но в своей непреоборимой логике и жажде знания находивший себе точку опоры, он верил в свое уравнение, верил, что счастье состоит в добродетели, а добродетель есть дело знания; верил и заставил других поверить. Отсюда вековая борьба с бессознательными естественными влечениями и инстинктами. И это признак упадка, потому что при подъеме жизни счастье и инстинкт едино суть, нет между ними разлада. Но, кроме того, это источник пессимизма, ибо жизнь, состоящая в подавлении жизни, конечно, не дорого стоит. Это испытал на себе Сократ сам, что и выразил предсмертною фразою: жить значит долго хворать. Так приблизительно рассуждает Ницше в «Gotzendammerung». В «Geburt der Tragodie» он освещает Сократа несколько иначе, вернее, с иной стороны. Сократ и здесь является тем же ненормальным, но великим человеком, обозначающим собою поворотный пункт в истории Греции, а через нее и в дальнейшей истории цивилизации. Но здесь он называется типичным «теоретическим человеком» и оказывается родоначальником если не оптимизма вообще, то особенного его вида – «теоретического оптимизма». Сократ, полагавший возможным знанием проникнуть в сокровенную сущность вещей и сводивший нравственное зло к умственному заблуждению и незнанию, – Сократ положил основание той доселе длящейся жажде знания, которая создала ряд сменяющих друг друга философских систем, опоясала и перепоясала законами весь мир и выстроила головокружительной высоты пирамиду познанных фактов. Познавательная деятельность признана благороднейшею, даже единственно достойною человека задачею, а способность познания – высшим даром природы; это – наследство Сократа. Даже возвышеннейшие нравственные деяния, волнение сострадания, самопожертвование, героизм выводятся Сократом и его преемниками до сего дня из диалектики знания и сообразно этому объявляются поучительными. Сократово наследство – и эта вера во всеисцеляющие свойства знания, в возможность жизни, руководимой исключительно знанием. Эта точка зрения позволяет некоторым отдельным людям замкнуться в узкий круг разрешимых задач, изнутри которого они с весельем смотрят на жизнь: жить стоит, ибо жизнь можно познавать, а в познании заключается высшее наслаждение. В этом и состоит «теоретический оптимизм».







