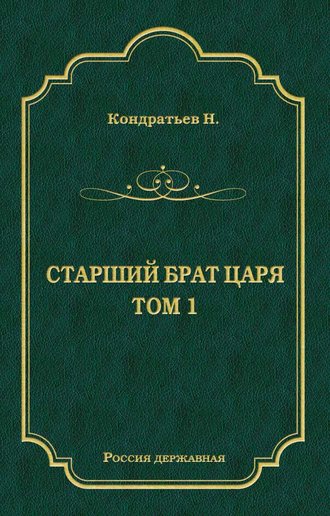
Николай Кондратьев
Стрелецкий десятник
– Ну что, боярич Данила, догадываешься, кого ждут?
Даниил, не поняв ничего, хотел повернуть коня, но не успел поднять плетки, как очутился на земле в руках катов. Они подтащили его к сосне и принялись раздевать. Даниил взмолился:
– Государь, за что? Чем провинился? Государь!..
Иван подъехал ближе и молча наблюдал за происходящим. Каты затянули заранее приготовленные петли, и Даниил оказался подвешенным за руки к сосне, с ногами, привязанными к тяжелому бревну. Ощутив боль от врезавшихся веревок, он перестал вопрошать и злобно глядел на царя. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, с лица царя сползла веселость, взгляд Ивана стал холоден и беспощаден, глаза постепенно расширялись, сверкая белками. Мало кто выдерживал его взгляд, но Даниил выдержал, чем еще больше разъярил царя.
– Зачем ты, раб лукавый, украл присланную мне грамоту?
– Я не крал. Свиток валялся на полу.
– Кому ты хотел передать его?
– Никому, государь, как перед Богом! Не думал я, что в твои покои попал. Пьян был.
– Прочел?
– Как мог прочесть? Я вельми пьян был.
Иван покачал головой и подытожил:
– Ой, Данила, Данила! Зачем же мне, государю своему, врешь, да еще Богом клянешься? Двадцать плетей, чтоб в другой раз не врал!
Каты секли с двух сторон ременными кнутами с оттягиванием. На спине Даниила ложились крест-накрест наливающиеся кровью жгуты. После пятой пары ударов потекли струйки крови. Даниил истошно вопил, эхо вторило и множило его крики. Конь под Иваном метался, не слушался узды. После двадцатого удара каты вытерли кнуты пучками травы, свернули кольцами и отошли. Даниил продолжал вопить, хотя много тише, Иван крикнул:
– Замолчь, скотина!
Даниил, верно, не услыхал.
Царь кивнул катам:
– Еще десять.
Каты исполнили приказ, Даниил обвис на веревках. Мокруша взял кожаную бадейку с приготовленной водой, окатил боярича. Даниил, застонав, открыл глаза. Иван резко выговорил:
– За вранье будешь еще бит, Данилка. Понял?
– Понял, государь. О, Господи! – Голос Даниила изменился, стал хриплым и глухим. – Зачем так больно, государь?
– Станешь врать, еще больнее будет. Теперь отвечай: прочел грамоту?
– Прочел половину… Спирька вырвал. Как перед Богом!
– Обрадовался, что узнал?
– Чему радоваться, государь? Ведь крымцы идут.
– А про Мишку-князя молчишь? Язык прикусил. Теперь главное. Кто тебе сказал, что жив сын великой княгини Соломонии? Слышь? Говори. – Даниил громко застонал. – Молчишь? Огня!
Мокруша надел рукавицы, выбрал из костра большой горящий сук, поднес к его ногам. Даниил задергался, заревел, завизжал. Иван кивнул другому кату, и еще одна головня коснулась ног Даниила. Запахло горелым мясом. Даниил кричал все слабее и слабее, потом сильно дернулся последний раз и, захрипев, обвис на веревках. Палачи отбросили горящие суки, выгребли из-под ног уголья, Мокруша вылил воду на Даниила и сказал:
– Хлипкий мужик, долго не выдюжит. Отдохнуть ему надо, государь.
– Времени нет. Давай еще воды.
Медленно приходил в себя Даниил. Поднял голову, странным, безумным взглядом окинул поляну и остановился на Иване. Вдруг задергался и дико захохотал, сквозь смех выкрикивая:
– Струсил!.. Ивашка струсил! Идет, идет сын Соломонии! Законный государь! А тебя, выблядка, вон! Вот так же повесят, как меня.
Теперь и Иван заорал по-безумному:
– Язык! Язык! Вырвать язык ему, сволочи!
Каты заторопились. Опустили Даниила на землю. Тот отбивался и поносил царя. Наконец каты одолели его. Металлическим клином, ломая зубы, разжали челюсти. Мокруша пальцами вытянул язык и резанул ножом. Каты отскочили в разные стороны. Даниил, захлебываясь кровью, катался по примятой траве. Иван, перевесившись так, что чуть не свалился с седла, следил за происходящим, что-то кричал. Потом спохватился:
– Ах, вашу!.. Ведь он не сказал ничего! Ах, гады ползучие! Поспешили, когда не надо! Вот вам! Вот вам! – Иван наезжал конем на катов и бил их плетью. Они не загораживались, согнувшись под ударами, поспешно складывали в корзины свое хозяйство. Больше всего плетей досталось Мокруше, который медленнее других забирался в седло. Теперь Иван гонялся за конными катами и, задыхаясь, кричал:
– Пошли, пошли отсель! Скорей! Скорей! – И сам пришпорил коня.
Спиридон следил за Иваном, стараясь не оказаться перед ним и не получить плетей. Он не впервые присутствовал на пытках, научился не рассуждать – раз государь казнит, значит, так надо. И тем не менее сегодня появилось сомнение: то ли содеяно? Почему оставил боярича на верную, мучительную смерть? Куда и почему заспешил государь? Но быстро отогнал от себя эти крамольные мысли – не его ума дело.
Оказавшись в лесу, Иван заметно успокоился. Впереди его ехали каты, позади – Спиридон. Он кликнул Мокрушу, тот придержал коня, сжавшись, ждал плетей. Однако Иван сказал только:
– Пошли кого из своих к Прокофию, пусть заберет.
– Может, вернуться, полечить? – осмелился предложить Мокруша. – Помрет, чего доброго.
– Околеет, туда и дорога.
Больше Иван ни с кем не разговаривал, в селе Алексеевском перегнал поезд и до Кремля скакал не останавливаясь, безжалостно нахлестывая коня.
Прислушиваясь к затихающему топоту отъехавших коней, на поляну вышли три мужика, оборванные, заросшие, прокопченные дымом у костров. Воровато направились к сосне, увидали одежду Даниила, перетряхнули ее, обшарили. Маленький высказал сожаление:
– Эх-ма, обобрали! А видать, этот из боляр был.
Седой мужик, может, предводитель, распорядился:
– Свяжи и неси, там разберемся. – Подошел к Даниилу, который, скорчившись, лежал на боку. Его лицо и трава вокруг были в крови. Он не стонал, не шевелился, только с каждым вздохом изо рта пузырилась кровь. К исполосованной, почерневшей спине прилипли листы, травинки и комочки земли. Ноги его оставались привязанными к бревну, на руках висели куски веревок. – Никак жив еще?
Тщедушный мужик предложил:
– Может, отнесем на пасеку? Тут недалече. Так сгинет, а Сургун выходит. Выкуп возьмем.
Седой усомнился:
– Петлю возьмешь. Искать начнут.
– Не, Сургун глаза отведет. У него не найдут.
– Кладите ко мне на хребет, отнесу, – сказал третий мужик.
Подняли, положили на спину и пошли. Маленький рассуждал:
– Видать, отделали его лесовики, вроде нас. Чьи бы могли? Одеты чисто…
Тот, который согнулся под ношей, уточнил:
– Какие лесовики! Что в кафтане – знакомец мой, Мокруша, царев кат. Полста плетей отсчитал мне. А тот на коне… Страшно сказать!
Седой подтвердил:
– Он самый, государь! Чинил суд и расправу.
Маленький так и присел:
– Он! Сам?! Вот те и на!
За лесовиками сошлись кусты…
Немного позднее на поляну прискакал Прокофий с холопами. Увидел лишь помятую траву, следы коней, ошметки крови да обрывки веревок. Даниила нигде не было. Облазили округу, заехали к пасечнику Сургуну. Сухощавый седой старик в длинной белой рубахе возился с колодами. Увидал боярина, бегом побежал, хмельного пива поднес, холопам – кваса с ледника. Христом Богом клялся – никого не видел, ничего не слышал. Для порядка обыскали пасеку, землянку, сараи. Уехали, забрав бадейку меда.
Прокофий шум поднимать не стал. Объявил сестре и зятю, что пропал их сын Даниил. Может, на разбойников наткнулся, а может, с диким зверем повстречался не в урочный час. Всякое бывает. Насчет царского гнева не обмолвился, да и не знал толком, за что разгневался государь. Отслужили панихиду по вновь преставившемуся, поплакали, поминки устроили.
Так и сгинул жилец государев Даниил Патриков.
17
В тот день, 16 июня 1552 года, великий князь Московский, царь всея Руси Иоанн Четвертый Васильевич присутствовал на молебне в Успенском соборе; получил благословение митрополита Макария, в Архангельском соборе поклонился праху предков своих, а затем уж перед всем двором простился с государыней Анастасией. Иван поручил царице делать добрые дела всякие: ежели посчитает нужным – пусть освобождает виновных из-под опалы царской, открывает двери темниц и всякие другие богоугодные дела совершает во имя победы над агарянами казанскими.
Сопровождаемый звоном колоколов и добрыми пожеланиями, Иван выступил в поход во главе воинства московского под личным стягом с образом Спасителя, а на верху древка – крест, который был у великого князя Дмитрия на Дону. За Москворечьем пересел с разукрашенного коня в легкую колымагу и велел кликнуть Алексея Адашева, окольничего.
Адашев, осадив коня близ колымаги, спешился. Иван, слегка подвинувшись на пуховых подушках, пригласил его в колымагу. Окольничий не осмелился сесть рядом, а примостился в ногах государя, неприметный в своей серой однорядке. Лет ему было под тридцать, спокойная уверенность отражалась на его лице, на вопросы отвечал без торопливости.
– Челобитей богато? – спросил Иван.
– Богато, государь. Приказных подьячих учу по челобитным миром кончать – не ко времени сей день свары заводить. И еще согласия прошу: ответчикам и просителям, кои в войска идут, твоим именем объявлять суд Божий – неправых покарает Господь десницей Своей на поле брани; после дела казанского правого видно будет. Предвижу – убавится челобитных.
Иван усмехнулся:
– Сие мудро! Согласие даю. Однако ж многим не по шерсти будет… Как воеводы? Не грызутся втайне?
– Бог миловал. Все знают свои места по твоей росписи… Из Углича прибежал вестник со словами боярина Морозова: два добрых сруба церковных заготовили из угличской сосны, да полтора десятка башенных срубов дубовых для «тарасов» подвижных. На баржи грузить начали. Из Рязани уже вышли баржи с хлебом. Из Свияжска протопоп Тимофей грамоту прислал. Отписывает: твое слово, государь, и поучение святейшего митрополита Макария укрепили дух воевод и воинов. Привезенная освященная вода московская исцеляет цингой заболевших. Опять же, отец Тимофей именем Всевышнего принудил всех вместо речной воды пить клюквенные и хвойные отвары на воде из святого источника, сие зело больным помогает, ежели с молитвой.
…На каждый вопрос государя готовый ответ: и пушечный наряд, и зелье огненное, и обиход простого воя – портянки или чеботы – обо всем видна забота, радение. Радуется Иван толковому помощнику в делах больших и малых. Радуется и замечает: со слов окольничего все деяния исходят от него, от государя. Ладно ли сие? А Андрей Адашев продолжает:
– …Муромские и арзамасские воеводы по твоему указу заготовили десять тысяч саженных кольев заостренных и вяжут из них двухсаженные плетни. А еще доплетают пять тысяч корзин ивовых…
– Не давал я такого указа! – высказал сомнение Иван. – Корзины на кой ляд?
– Прощения прошу, государь. Был твой указ на это, – не растерялся окольничий. – В ту пору, государь, ты о прошлом походе на Казань сказывал. Много-де наших полегло под стенами от стрел агарян поганых. Ты тогда добро сказал: ежели близ стен казанских насыпь сделать, землю корзинами таскать, а на насыпи щиты из кольев…
– Было, было такое, про гуляй-город тогда разговор шел, – вспомнил Иван и про себя отметил: «Во память какая!» Вслух спросил: – А кто ивовые прутья да ореховые для туров готовит?
– Свяжские воеводы. У них там ивовые и ореховые заросли на версты.
– Исполать, Алексей сын Федора! Быть тебе головою действ хитростных против твердыни казанской!
– Благодарствую, государь, живота не пожалею! Однако главою все ж князя ставь, а меня его товарищем.
– У князей-воевод свои заботы. А у нас теперь, слава богу, не по знатности во главу ставим…
…Так за делами воинскими и большими государственными время незаметно прошло, прибыли в село Коломенское. Отобедали тут, отдохнули и дальше тронулись. Теперь государь в колымаге своей вел душеспасительную беседу с протопопом Андреем, походным духовником своим.
Ночевать остановились в селе Острове. После ужина Иван ненадолго прошел в пытошную избу, что стояла над Юшункой-рекой. Оттуда вернулся в опочивальню и долго клал земные поклоны перед киотом.
18
Во все стороны от Москвы разбегаются дороги разные, накатанные, утоптанные. Много люда всякого снует по ним и по делу и по безделию. В июне 1552 года самой оживленной была дорога Коломенская. С утра до поздней ночи по ней шли ополченцы пешие, скакали воины конные, тащились телеги, доверху груженные ратным снарядом и харчем для воинов. По обочинам гнали табуны коней, с ревом и блеянием медленно плелись стада коров да овец, чтобы было чем разговеться воинству русскому после Петрова поста, в день святых Петра и Павла.
Лето выдалось сухим и знойным, и все движущееся по дороге поднимало цепкую, полынистую пыль. Особенно густую пыль поднимал отряд Юрши Монастырского, без малого тридцать всадников в два-конь каждый. К тому же поспешают они – задержали их в Разбойном и Стрелецком приказах. Сперва ехали по четыре коня в ряд. Впереди десяток Юрши, все в красных терликах с нагрудниками, на которых вышит знак царской охраны – невиданный зверь единорог. За ними полтора десятка стрельцов тоже в красных терликах, только у этих нагрудники с орлом. Одеждой отличались два конника: гонец скопинский – в сером кафтане, насквозь пропыленном, да боярич Афанасий, этот в легком полукафтане темно-зеленого сукна и в коричневом полотняном налатнике. А лошади все одной масти – мышиной, потому что пропотели и запылились. Оружие также одинаковое: сабля да саадак – чехол для лука и колчан со стрелами. Да у половины стрельцов к седлам запасных лошадей приторочены короткие пищали.
Ехали ходко, больше широкой рысью, наметом мешали запасные кони; отдыхали всего раз под Броничами. Юрша полагал ночевать за Коломной, по ту сторону Оки. Ан не вышло, ближе к городу дорогу забили ополченцы, двигаясь шагом. Опять же, десятник московских стрельцов сказал, что их кони по много верст давно не ходили, сразу загнать можно. Хочешь не хочешь, еще засветло пришлось становиться на ночевку, не доезжая до Коломны. Прежде всего о конях забота – торбы с овсом подвязали им, чистить от пыли и пота принялись. Потом о себе – тюрю приготовили: мелко накрошили хлеб с луком, полили постным маслом, добавили речной воды. Поели плотно, фунта по два, по три хлеба на брата; утром на завтрак будет на половину меньше – в дальнюю дорогу есть много не полагалось. Лошадь – другое дело, и утром, и в полдень, и вечером давали досыта, им полный желудок в пути не помеха.
Снялись с первыми лучами солнца. Чтобы выиграть время, Коломну решили миновать, поехали в обход прямо к Верхнему броду. Оттуда на Зарайск дорога пошла не такая широкая, как Коломенская, но гораздо спокойнее – редко-редко со встречным разминутся. Впереди скопинский гонец, он дорогу знает, да стрелец Аким. За ними Юрша и Афанасий, позади стрельцы, как всегда, по четыре коня в ряд.
Теперь Юрша, позволив себе расслабиться, задумался… И в который раз явственно встала перед ним картина последних минут перед отъездом из тонинского дворца…
Оранжевая зорька разгорается-полыхает на востоке. Петухи многоголосо перекликаются на царском дворе и в деревне… Стрельцы Юршиного десятка выводят коней, седлают их и тихонько переругиваются – перед дворцом тишина строго оберегается, за громкий разговор можно запросто плетей схватить!
Юрша седлал Славича, когда к нему из-за коней вывернулась девка:
– Батюшка-десятник, беги в трапезную, там тебя боярышня ждет, – прострекотала скороговоркой и была такова.
Седлавший рядом своего коня Аким принял уздечку Славича.
Юрша хотел было побежать на зов, но удержался и пошел быстрым шагом. И все ж почему-то перехватило дыхание…
Вошел в трапезную. В утренней полутьме – никого. Направился к двери в боярскую половину. У изразцовой печи увидел Таисию. В зеленом шушуне, на лбу темные волосы перехвачены зеленой лентой, такие же в косе… Показалась ему Таисия зеленой елочкой, ожившей как в сказке. Сорвал Юрша мурмолку с головы и прижал ее обеими руками к груди, поклонился слегка. Затаив дыхание и опустив глаза, стояли они друг против друга. Первой подняла свои лучистые глаза Таисия и тихо промолвила:
– Юрий Васильевич, слыхала я, уезжаешь ты в Дикое Поле. Будешь ли там помнить меня?
Юрша не сказал, а выдохнул:
– Боярышня! Таисия Прокофьевна! Мне ли забыть тебя!
Он глянул на нее, и дальнейшее объяснение было не словами, а взглядами. Ее ясные глаза в предутренней темноте сказали Юрше такое, чего часто и не скажешь. Да и нужны ли тут слова?!
Понятный только для них немой разговор прервала Таисия:
– Дай надену на тебя вот этот крестик и ладанку. В ладанке прядка из косы моей, чтобы ты никогда не забыл меня! А крест Господень сбережет тебя от всякого лиха, от стрелы и меча вражеского.
Поцеловав крестик, она надела цепочку и ленточку с ладанкой Юрше на шею. Он выпрямился, а ее руки остались на его плечах. Таисия, стоя на цыпочках, припала к нему. Он обнял девушку, и время остановилось…
Где-то скрипнула дверь, послышались тяжелые шаги. Таисия вырвалась и юркнула прочь. Юрша остался стоять и только немного посторонился, когда появился боярич Афанасий, тот прошел через трапезную, как слепой, натыкаясь на скамьи, и скрылся на государевой половине. Юрша, слегка пошатываясь, вышел во двор и тут же вернулся за шапкой, оставленной возле печи…
Радость и тревога овладели десятником. Перед ним вставали безответные вопросы: почему боярская дочь выбрала его, простого стрельца, бывшего послушника? Что, детей боярских мало, что ль? А может, балует девка? Ведь нарядилась она мужиком на охоте!!! И вдруг ужом заползла мысль: «А чем я хуже детей боярских? В ратном деле я их за пояс заткну!» И тут же появлялось желание разыскать своих родителей: ведь где-то они должны быть! И опять, в который раз пред ним встает инокиня, ее скорбное, бледное лицо со следами слез, ангельские печальные небесно-голубые глаза… Приближается он к ней, падает на колени. Она кладет руку на его голову, шепчет молитву, просит Богородицу сохранить отрока от злых людей, не взыскивать с него грехи родителей… Было ему тогда, он хорошо то помнит, тринадцать лет, и больше он не видел ее светлого лица… Кто эта инокиня? Она не простая монашка; помнит он, как почтительно относился к ней сопровождавший его старец Пантелеймон… А вдруг эта инокиня – его мать? Только мать может так молиться за чадо свое! Следовательно, и он?.. Такие мысли бросали Юршу в жар, он гнал их от себя и твердил чуть ли не вслух: «Сон это, сон! Я – простой послушник монастырский. Вот только государь отметил меня. Дай Бог ему долголетия!..»
Будто очнулся Юрша ото сна, и грустного и приятного… Дорога шла по темному бору. Впереди – верный Аким, а рядом Афанасий… И мысли приняли другой оборот – вспомнил поручение государя… Ведь это сказать просто: пойди поймай, привози языка! А как поймать? Говорят, бирючи впереди орды идут. Значит, нужно выйти на путь орды, искать селение и ждать. А вдруг не придут, минуют? А придут с охраной, вступать в бой, хватать бирюча, да того, который с грамотой, и удирать… А какая охрана? А тут еще боярич Афанасий на его выю! Зачем послал его государь? Поставил бы головой, понятно было б, а то – товарищем-помощником! Если возьмем языка, все будет ладно. А вдруг неудача? Боярич могилу глубокую выроет, не выскочишь!
…А у Афанасия свои думы. Ведь в Дикое Поле погнал государь! За какие прегрешения? Он ли не служил верой да правдой! Во всем виноват этот пропойца Данилка! Ведь надо ж послать под начало десятника его, боярича! Правда, отец успокоил, а он честь рода блюдет строго, – будто государь ему сказал, что не пировать посылает, дело тяжелое, Афоню, дескать, жалеючи головой не назначаю. Да и Афанасий убедился, что Юрша не возрадовался-возгордился назначеньем, сам предложил:
– Хочешь, боярич, под твое начало стану?
Но воспротивился Афанасий:
– Нет, десятник. Пусть будет как государь повелел. – А все ж про себя подумал: «Монастырский-то себе на уме! Может, подсмеяться хотел, подкидыш?»
И все ж, как ни поноси, а рядом ехать нужно и дело сообща вершить!
Следующую ночь провели за Михайловом, на реке Проня. Юрша в душе негодовал: слишком медленно двигались, всего верст сто в день! Но впереди предстояли трудные дела, и он не хотел ссориться с московскими стрельцами.
Через каждые сорок верст десятник оставлял подставы – шесть лошадей, двух стрельцов, старшим – одного из своего десятка. Возвращаться государь приказал в Коломну, тут он хотел встретить день апостолов Петра и Павла, после, если не появятся крымчаки, двинуться на Казань.
В Скопин прибыли около полудня. Здесь сделали большой привал, сварили хлебово – густой кулеш, приправленный подсолнечным маслом. Пока люди отдыхали, Юрша разыскал воеводу и отдал ему государеву грамоту. Тот прочел и не задумываясь приказал крикнуть Микиту Кривого. Юрше не понравилась такая поспешность, но он решил посмотреть, что это за человек.
Вошел мужик небольшого роста, на левый бок скривленный, снял колпак и степенно перекрестился.
Воевода сказал:
– Поведешь государевых воев на Дон, на Елец-поле. По пути своих поспрашивай или татарина поймай. Государю надобна прелестная грамота, что читают по селам татарские бирючи, и язык при той грамоте. Понял?
Мужик чесал голову и смотрел в потолок. Воевода недовольно покосился на него:
– Спрашиваю: понял?
– Тяжелое дело, боярин. У грамоты той всегда полсотня крымцев болтается. А царевых воев, я посчитал, двух десятков нет.
Неказистый мужик понравился Юрше: не из трусливых, к тому же сметливый.
– Умничаешь, Микитка! Смотри у меня! – вспылил воевода. Повернувшись к Юрше, уже другим тоном добавил: – С людьми у меня трудно. Дам тебе десяток стрельцов да двадцать мужиков-ополченцев. Не обессудь, больше не могу.
19
От Скопина верст двадцать ехали по дороге вдоль засечной линии. Юрша много слышал про оборонительные рубежи украйны, но увидеть их довелось впервые. Вдоль дороги по правую и левую стороны тянулись непроходимые лесные завалы. Деревья были повалены вершинами в сторону противника, между ними колючий кустарник – и живой, и нерубленый. Всюду попадались стражники засечные, вооруженные пиками и луками. Виднелись и их жилища – землянки и шалаши, кругом множество бадеек, лоханей берестяных и деревянных с водой. Ехавший рядом вожатый Кривой завязал разговор:
– Смотрю, любопытствуешь, десятник? У нас все от мала до велика засечным делом занимаются. Землицу-матушку пахать некогда, бабы с горем пополам ковыряют… А вот тут, видишь, полянку заделывают, ряжи ставят. – Они проехали мимо большой группы крестьян и стражников. Одни из них плели плетни, другие таскали корзины с землей и высыпали между плетнями. Юрша спросил, зачем столько лоханей потребовалось.
– Это, вишь, самое главное оружие. Татарин без коня воевать не может, а засека для коня гибель верная. Мы им перегородили самый большой шлях, Ногайский. Как подойдет орда, начинает выжигать бреши, стрелы огненные мечет. Ну а мы тушим, от пеших татар отбиваемся. Канавы роем, воду набираем… А нонешнее лето гиблое, дождей давно нет, воду из Верды таскать приходится. Татары подойдут, тяжко придется.
– А почему татары в лоб идут, не обходят засеку?
– Где ж ее обойдешь! Она тут у нас по Верде до болот Таболы. А на восход и вовсе конца нету. По Рановке и Хупте до Ряжеска, далее по Дегтярским лесам за Сапожок по рекам Паре, Цне до самой мордвы. Ну, вот мы и к выезду приехали. Отсель на полдень побежим, по Раново-реке.
Дорога круто спускалась к реке Верде. Юрша увидел дополнительные укрепления – вдоль дороги стояли подрубленные вековые дубы и сосны, которые удерживались стоймя канатами – их обрубят перед конными татарами, деревья упадут и перегородят дорогу.
У переправы толпились люди, теснились подводы со скарбом, гнали скот. Кривой кивнул в их сторону:
– Это наше горе идет. Татары близко. На Ранове уже грабят. Вот за Вердой начинается Дикое Поле, а какое оно дикое? Наш русский мужик еще на сотни верст живет. Вот только крымцы часто набегают.
Как только перебрели Верду, Юрша приказал перестроиться по-боевому, приготовить луки. Теперь ехали первыми Юрша, вожак и Афанасий. За ними Аким со стрельцами, все одно-конь. Потом воины вели запасных коней, каждый по четыре. Замыкали отряд ополченцы. Ехали медленно, боялись нарваться на засаду. Но скоро убедились, что врага не видно, и поехали смелее.
В пути попалась деревушка. Из крайней избы вышли два старика, до слез обрадовались, увидев царев отряд. Рассказывали, что селяне, не дожидаясь татар, подались кто в лес, кто в ополчение на засеку. А стариков оставили стеречь добро, страдать за мир.
От этой деревушки проехали еще верст с десять. Лес кончился, открылось широкое поле. Выехали без опаски и тут же спешно попятились назад: в полверсте вдоль опушки ехали татары. Их было человек двадцать, они были чем-то возбуждены, громко шумели, крутились на своих низеньких лошаденках. Юрша приказал спешиться, коней отвести в глубь леса, чтобы их ржание не привлекло внимание неприятеля. Но ополченцы потребовали от Кривого напасть на крымчаков и разгромить их. Кривой сердито оборвал:
– Слыхали, что десятник сказал? Слезать! Митька, уведи коней! Кто глазастый? Что там у татар? Десятник, давай пошлем двоих отчаянных. Они выскочат, а потом назад. Татары за ними, мы их и накроем. А?
Юрша согласился. Кривой назвал двух парней, которые сняли оружие и сели на коней как простые селяне. Но вылазка не состоялась: пока парни собирались, татары перестали вертеться, выстроились в два ряда. Вперед выехал толстый татарин, надо полагать, голова отряда. Один из всадников сбросил с седла девушку. Голова взял ее за косу и отвел шагов на десять по направлению к лесу, потом хлестнул несчастную. Девушка побежала к лесу. Вожак позволил ей удалиться саженей на пятьдесят и опустил плетку, гортанно вскрикнув. Шестеро татар из первого ряда устремились за ней, остальные мчались позади. Раздался визг, рев, свист, будто пошли на приступ. Таким образом, подбадривая соперников, все приближались к девушке. Она, казалось, летела, еле касаясь земли. Но один из преследователей уже был рядом, свесился с седла, чтобы схватить ее развевающуюся косу. Она поняла его намерение и ловко перебросила косу на грудь. Крымчак все же ухватил ее за рубаху. Но девушка ловко выскользнула из нее и припустила еще быстрее. До леса оставалось сажен двадцать. Но ее догнали двое – один схватил за волосы. В тот же момент без команды Юрши свистнули с десяток стрел. Три преследователя свалились с лошадей, остальные круто развернулись. Не видя врага и не зная его силу, татары решили не рисковать и, бросив убитых товарищей, умчались. С сожалением глядя им вслед, ополченцы ворчали:
– Вот, не отгони коней, ни один бы не ушел.
Девушка вбежала в лес и упала. Она часто и хрипло дышала, худое тело ее дергалось. Немного отдышавшись, подняла голову, увидала вокруг себя воев, быстро села, собралась в комочек и, одним движением распустив косу, прикрыла наготу густыми рыжими волосами. Продолжая часто дышать открытым ртом, обводила испуганным взглядом окружающих. Один из ополченцев, оставшийся на коне, выехал в поле, подобрал рубашку и бросил ее девушке. Быстрым, каким-то кошачьим движением она оделась, перебросив волосы на грудь, начала быстро заплетать косу. Худенькое личико с конопушками на носу оставалось недоверчивым, настороженным и испуганным.
Кривой подошел поближе, нагнулся к ней: девушка испуганно отодвинулась.
– Как тебя звать, девица?
– Фёшкой.
– Откуда ты?
– Из Питомшей. – Девушка вдруг преобразилась, встала на колени, молитвенно сложила руки и сквозь слезы заголосила:
– Дяденька! Люди добрые! Боярин! В Питомши пойдемте. Татары нас побили. Может, кто живой остался. Бабушка там, да тетка Василиса. Родненькие, помогите! – Она умолкла, слезы струйками бежали по лицу.
– А татары уехали?
– Уехали. Все уехали и меня увезли.
Кривой обратился к Юрше:
– Ну что ж, десятник, полем ехать нельзя, на крымцев нарвемся. Пошли в объезд лесом. До Питомшей версты две, по пути нам.
Фёшка обрадовалась и побежала, скоро ее потеряли из виду.
20
Деревня Питомши, хотя и находилась на Диком Поле, все ж числилась за Скопинским воеводством. На берегу речушки рассыпалось шесть курных изб, седьмая несколько в стороне – побольше других, с высоким позолоченным крестом на князьке – Божий дом.
Как пошли слухи про крымцев, в деревне остались только бабка Матрена с внучкой Фёшкой: им некуда было податься, да и ноги бабкины ходить далеко не могли. Еще осталась вдовица Василиса – эта никого не боялась.
В тот день Фёшка пошла в лес, что прямо за дворами, лебеды да крапивы нарвать, похлебку сварить, и вдруг прибегает сама не своя. Говорит, ватажка лихих людей в деревню завернула. Фёшка испугалась, дело девичье. Питомши – деревня лесная, и, понятно, лихие людишки заглядывают в нее, особенно в крайнюю избушку, к Василисе-вдовушке. А тут, поговаривают, Кудеяр со своей братией близко бродит.
Бабка Матрена будто по делу вышла на зады, на Василисин двор заглянула. Пять лошадей с торбами стоят, а разбойничков не видно, может, в избе добро делят, а может, ночь прогуляли, теперь спят. Вернулась, пожурила внучку: чего испугалась, дурочка, такие девку зря не обидят. Пришлось печку не растоплять, варить нечего было, тюри поели малость.
Прошло сколько-то времени, на улице топот раздался. Выглянула бабка в дверь, думала – ватажка ускакала, ан нет, крымчаки! Подкосились у Матрены ноги, так в дверях и села. Татары проскакали мимо, прямо к Василисиной избе – лошадей увидали. Стычка была короткой. Ватажники выбегали из избы, ничего не поняв спросонья – только что уснули ребята. Татары их секли безжалостно. Один выскочил из окна, побежал к лесу, его поймали арканом и тут же повесили на ветле.
После легкой победы крымчаки рассыпались по дворам. В избу к Василисе вошли четверо и задержались там. Эта сперва кричала, потом затихла: одни татары выходили из избы, другие заходили.
К бабке Матрене ворвались трое, оттолкнули ее, кинулись к иконам, с одной содрали оловянный оклад. С печки из-под тряпья выволокли Фёшку. Один из них тут же повалил ее на скамейку, двое других бросились на него. Матрена по стенке добралась до скамьи и собой прикрыла внучку. Ее отшвырнули, она упала и затихла. Фёшку вырывали друг у друга. Появился четвертый, схватил ее, и все выкатились на улицу прямо под ноги лошади, на которой сидел толстый татарин с белой бородой. Он начал охаживать камчой спорщиков, а затем ловко нагнулся и поднял девушку на лошадь. Все загалдели, но толстый, не обращая на них внимания, поехал к дому Василисы. Тут, под ветлой, на которой висел ватажник, татары складывали награбленное, сюда он и сбросил девушку. Охранявший награбленное крымчак с отрубленным ухом привязал ее арканом к дереву. Она теперь не сопротивлялась, притихла, неотрывно смотрела на синие ноги повешенного. Тут же рядом сидел еще один татарин и старательно соскабливал с церковного креста позолоту.





