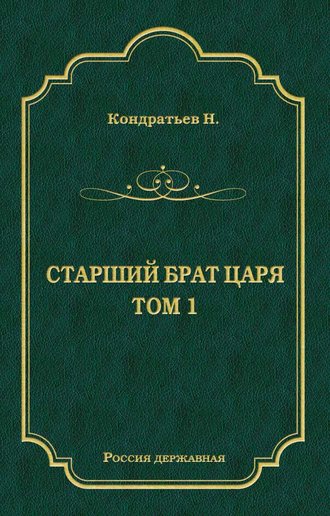
Николай Кондратьев
Стрелецкий десятник
Часть первая
Стрелецкий десятник
1
В селе Тонинское в государевом дворце самые обширные покои – это трапезная, два яруса окон в ней, каждое из которых набрано из разноцветного стекла. Столы в три ряда на сотню человек, государев стол на помосте, откуда можно окинуть взглядом всех пирующих.
В тот день не за кем было присматривать, в трапезной неполная дюжина едоков, все разместились по чину. На этот раз царь Иван Васильевич возвращался из Троице-Сергиева монастыря с малым числом спутников. Он сумрачен, потупив глубоко сидящие глаза, только изредка из-под насупленных бровей быстро оглядывал сотрапезников.
Хранителя царского дворца боярина Прокофия Морозова охватило беспокойство: не доволен чем-то государь!.. А может, заботы одолевают? Ведь ему 29 августа, на Ивана Постного, всего двадцать два года исполнится, по редкой бороде и того не дашь, а на челе уж морщины обозначились. За столом он ничего не отведал, меда не пригубил. А он-то, Прокофий, как старался! Похлебки, щи, ушицы наваристые, рыбы разные, солености, мочености горками, грибы и свежие есть, и в конопляном масле жаренные… Государь же только хлеб щипнул, в соль окунул, квасом запил, и весь обед. Вот горе-то! На что гневаться изволит?! А его сотоварищи и не замечают, что царь мрачней тучи, жрут в три горла! От меда хмельного голоса подавать начали. Ну, были бы мальчишки, какой с них спрос. Так нет! Вон Нарышкин, седина в бороде, а никакой важности! А племянничек-то, Данилка Патриков, больше всех усердствует в еде, ишь какую морду нажрал… Вон опять запустил пятерню в туесок за капустой!.. Ведь он давно в приближенных царя ходит, а разума так и не набрался. Иное дело Афанасий, сын его. Сидит скромно, лишь изредка на государя глаза вскидывает и тоже хлеб квасом запивает…
Не суждено боярину Прокофию узнать истинные причины переживаний Ивана, да и окружению царя то невдомек. А поводов много…
В то время, в июне 1552 года, иначе, в лето семь тысяч шестидесятое от сотворения мира, начался третий поход на Казань. Русское воинство собиралось под Коломной. Завтра, в середине первой недели – седмицы Петрова поста, сам Иван собрался выехать к главным силам. Накануне он посетил Троице-Сергиев монастырь и получил великое успокоение: преподобный Сергий Радонежский со стенной росписи благословил его на победный ратный поход против царства Казанского, как сто семьдесят два года назад живой святитель благословил прародителя его, великого князя Дмитрия на поход против Мамая. И возрадовался тогда царь, это все видели. Но в душе остались сомнения… Им, Иваном, уже предпринималось два похода на Казань и оба неудачные. Никто не ведает, какую муку сердечную ему пришлось тогда вынести! А вдруг и в третий раз тако ж? Хотя, конечно, сейчас все подготовлено не в пример лучше: и воинов больше, и огненного припаса, и воеводы дружнее и сговорчивее. Опять же, вокруг него ныне ревнители дела государева – Алексей Адашев – разумный советник, Сильвестр – духовный пастырь благостный и многие другие. Митрополит Макарий и ближайшие советники предрекали успех новому походу.
В то же время Иван знал: затаились недруги-бояре, противники похода, их нужно остерегаться. Но он убеждал себя, что наибольшая угроза исходит от нечистой силы, которой поклоняются казанские татары. Кто знает, как от нечисти избавиться, оградить себя?! Она кругом, куда ни глянь. Вот пока ехали от Троицкого пять раз дорогу перебегали зайцы, и не по одному – косяками; сам леший гонял их, наверное! Правда, каждый раз наперед выскакивали на своих конях рында Спиридон и десятник стрелецкий Юрша, первыми пересекали следы зайцев, брали на себя дурные последствия наваждения.
И все ж не удалось миновать недоброе. У въезда в село Тонинское неизвестно откуда взялась и перед царским конем пересекла дорогу сгорбленная старуха. Мало того, остановилась, клюкой погрозила, да шептала что-то при этом, может, проклятия иль заклинания!
Иван проскакал было мимо, потом хватился и послал Спиридона разузнать, что это за ведьма. А того по сю пору нет и нет, сгинул проклятый, и сумеречно на душе у царя.
Вдруг скрипнула дверь. Иван повел взглядом: у косяка Спиридон – хитроглазый русый детина, косая сажень в плечах. Кивнул ему, тот мигом оказался рядом и зашептал:
– Бабка Феодора, прозывают Рогулькой. Когда сказали, что на государя замахнулась, ей плохо стало, водой отливали.
– Не ведьма? – тоже шепотом спросил царь.
– Этого не водится за ней. Повитухой слывет, иной раз милостыней пробавляется. Приволок ее сюда, возле конюшни сидит, плачет. Прикажешь проучить?
– Нет, не надобно. Алтын дай и пусть идет с миром.
У Ивана отлегло от сердца, однако есть не хотелось, и он встал. Все тоже поднялись, лишь Даниил Патриков задержался, но, видать, почувствовав царский взгляд, заторопился проглотить еду и чуть не подавился.
Старенький священник церкви Благовещенья шепеляво прочел благодарственную молитву. Иван направился к выходу, за ним поспешил боярин Прокофий. Около двери к царю с поклоном обратился его сын Афанасий. У Прокофия ноги ослабели от ужаса. Он знал, что затевает тот неладное, да не успел запретить ему. Сейчас грянет гром гнева царского! Незаметно малым крестом перекрестился боярин чуть повыше обширного живота, и как во сне услышал слова сына:
– Государь, дозволь слово молвить.
– Ну, чего тебе? – Иван остановился.
– Волчья стая на Сукромле-реке объявилась. Разреши травлю устроить.
– Пост ведь.
– Пост постом, государь, а гонять надо: две ярки задрали, жеребенка загнали. Селяне плачутся. Дозволь…
Царь вдруг почувствовал, будто кто толкнул его: «Езжай на травлю. Коль волка убьешь, Казань принесет славу тебе!» Тихо спросил:
– Стая-то большая?
Афанасий отвечал почти шепотом, скороговоркой:
– О трех. Похоже, волчиха прошлогодний помет натаскивает. Уже людишек разослал, прямо теперь начать могу…
– Добро. Часок отдохну и тоже поеду… Ты чего поник?
– Помилуй, государь! Полагал – малая охота. Большую для тебя не готовил…
– Ладно, посмотрю на малую. – Иван обернулся к Порфирию: – Гонца пошли. Пусть скажет государыне и Адашеву: мол, завтра утром вернусь.
2
Когда царь Иван выехал на охоту, солнце еще основательно припекало, хотя и было уже на полпути к закату. Сразу за воротами ограды Тонинского царского дворца свернули направо, миновали вброд Сукромлю и неспешно двинулись по ее правому берегу, заросшему луговой разнотравицей с куртинами мелкого кустарника.
Иван ехал верхом. Под ним вороной аргамак грыз золоченые удила, порывисто перебирал тонкими ногами и зло косился на соседних коней, рядом – Даниил Патриков да Афанасий Морозов, у этих лошади каурые, поджарые. На три-конь позади двигалась царская охрана: приближенный рында Спиридон да стрелецкий десятник Юрша Монастырский. За ними – двор. В первой паре Прокофий Морозов с Игнатом Нарышкиным. Из-за жары все одеты в легкие полотняные чуги – кафтаны для верховой езды; государева чуга шита цветным шнуром, а кляпыши позолочены. Один только боярин Морозов блюдет старину – нарядился в широчайшую шубу.
За государевым двором – верховые стрельцы, потом слуги боярские и лучники царя. Поезд замыкали псари с собаками, но они не стали переезжать речку Сукромлю, а вытянулись дугой по заболоченному кустарнику в ожидании сигнала, чтобы спустить собак.
У Морозова-старшего отлегло от сердца: выезд шел чередом, у государя хмурость прошла, он самолично приказал к вечеру любимую ушицу из ершей сварить. Опять же, особую милость проявил: дозволил Афанасию рядом с собой ехать. На широком лице боярина Прокофия появилась самодовольная улыбка. Оглянулся на свиту царскую, понимают ли они радость его, и потускнел. Острым взглядом неположенное заметил: следом за поездом царским ехали его малайка, холоп младший Васек и дочка Таисия. Он тотчас ее узнал, хотя та и нарядилась в кафтан и мурмолку братьевы… Вот бесова девка! Нет чтобы в светелке сидеть, бабьим делом заниматься, бисер низать иль шелком вышивать, пример брать со снохи Марии, жены Афанасия, рукодельницы и хозяйки отменной. А эту, вишь, на мужские забавы потянуло. Вся в покойницу мать, царство ей небесное!.. Проведает государь, лихо будет! Что подумать может?
Но тут вниманием боярина Прокофия вновь завладел царь. Впереди что-то случилось. Ехали втроем, и вдруг государь стегнул коня, поскакал. За ним Афанасий. Прокофий недоумевал: что бы это значило?
А там произошло вот что…
Еще как Сукромлю перебрели, Иван пошутить изволил, спросил Даниила, почему он не женился до сих пор, может, чего не хватает у него. Даниил сдуру ответил:
– Все на месте, государь. А вот почета не хватает. Служу тебе верой и правдой, а толку что? Нет у других почтения к слугам твоим.
Веселость с царя ветром сдуло. Насупился опять, морщины на лбу резче проступили.
– Кто осмелился обижать слуг моих?!
– Дозволь по порядку, государь? – Иван хмуро кивнул. Даниил говорил, постепенно воодушевляясь: – Сватов я послал к боярину Михаилу Еремеичу. Принял, ничего не скажешь, честь честью. Сваты разговор повели, поминки выложили. Боярин холопам приказал развернуть, осмотрел и говорит: «Сказываете, прислал Данилка, сын Ивана Патрикова? Обноски прислал, сваты дорогие! Знать не знаю вашего Данилку и знать не хочу!» Ему сваты: мол, Данила у государя Иоанна Васильевича в доверенных слугах ходит. А боярин свое твердит: «Какое мне дело, кто у кого в услужении? Говорю, обноски не принимаю».
Иван насмешливо спросил:
– Может, и впрямь рухлядь-то ношена была? А?
– Помилуй, государь! Послал я пять соболей, два десятка куниц, плат, серебром шитый, камки штуку. Мы порядок знаем! Не. Все потому, что мало жалуешь меня за мою службу верную. Ничем не отмечен я.
Хорошее настроение постепенно возвращалось к Ивану, он усмехнулся:
– А красна девка у боярина Михаила?
– Посмотрел я ее. Она у Трех Святителей обедню стояла. Ничего, статная. Может, токо, худовата маленько.
– Э, Данила, хочешь, я тебя пожалую? Сватом поеду, мне боярин Михаил отказать не посмеет. А девку сам посмотрю, может, и мне понравится.
Даниил заметно испугался:
– Что ты, государь!
Иван вновь насупился:
– Не возрадовался ты, Данилка, чего-то.
– Чему радоваться-то?.. У тебя и своих забот хватает, а мы уж как-нибудь сами. Вот вернусь, Бог даст, из похода Казанского, тогда и уломаю старика.
– Врешь, Данилка! Другое у тебя на уме. Боишься, а?
– Боюсь, государь! Хоть ты и женился и голубишь государыню Анастасию, а все ж прыть не потерял… Много о тебе разговоров ходит. Вдруг приглянется девка тебе…
– Вон какие среди вас разговоры! Ах ты, раб лукавый! Государю своему не веришь! Чужую девку показать боишься! Вот преданность твоя!
Судорога искривила лицо Ивана, губы растянулись, открыв зубы, он огрел нагайкой аргамака, обиженный конь присел и рванул галопом.
Скачка охладила Ивана, да и понял, что не стоило сердиться на дурацкие речи. Он начал придерживать разгоряченного коня. На взгорье Афанасий подъехал к царю и сказал:
– Государь, разреши подать сигнал псарям. Волки вон в тех зарослях, от собак сюда пойдут. Ты тут стой, а мне дозволь отъехать на ту сторону речки, там людишки наши, будем зверье от леса шугать.
Иван молча кивнул и остановил коня. Афанасий, громко трубя в охотничий рог, помчался по склону к реке.
Спиридон отстегнул от седла чекан – топорик с обушком на длинной ручке, помог царю накинуть на правую руку шелковую петлю. Вооружились все желающие принять участие в охоте.
От села донесся разноголосый лай собачьей своры.
3
Волчица и два уже взрослых волчонка бежали извилистой звериной тропой по берегу Сукромли. За ними заливались взявшие след собаки. Волчата ростом не отличались от матери, но шерсть у них была темнее, а на загривке короче. Они часто оглядывались и скалили зубы. Волчицу лай собак не страшил, на тропе среди разросшихся кустов ветлы, орешника и ольхи свора тянулась цугом и не могла окружить их. Поэтому мать-волчица трусила неспешной рысью, берегла силы. Ей не раз приходилось попадать в облаву, и она знала по опыту, что наибольшая угроза исходит не от кричащих людей и шума трещоток справа, со стороны леса, а от негромкого топота лошадей слева. Однако волчата еще не понимали этого, и каждое их движение влево она сдерживала сердитым рычанием и злым оскалом.
Еще немного, и речка впереди затеряется среди кочковатого болота. Тогда волчица ускорит бег, собаки отстанут, и она с волчатами отдохнет в тишине на хорошо известных ей сухих островках.
Но оттуда, где волчица ожидала отдых, раздался лай новой своры. Теперь ради спасения нужно было заставить волчат преодолеть страх и повернуть к лесу на шум трещоток. Она издала звук, похожий на хриплый выдох, но волчата не поняли сигнала. Страх поборол инстинкт послушания, они рванулись влево, широкими прыжками миновали речку и на противоположном берегу зашуршали кустарником. Волчица на мгновение замерла на месте и тут же, застонав от горя, пошла за детьми.
Своры собак, столкнувшись, задержались, началась грызня, хотя и были они из одной псарни. Некоторые собаки, потеряв след, повернули к лесу на шум людей, но большая часть своры бросилась на другой берег.
Волчица неслась по прибрежным кустам несколько наискось, теперь уже не жалея сил. Она слышала, как недалеко впереди зашумели люди, тяжело затопали и захрипели кони – началась погоня. Потом характер топота изменился, она всем своим существом поняла, что там, на поле, все кончено! В два прыжка оказалась на открытом пространстве и остановилась. Трудно сказать, видела ли она смерть своих детей или нет, но явно почувствовала, как выскакивающие из кустов собаки окружают ее. Она не подумала убегать, а за секунду от общей свалки бросилась со всех ног к человеку, соскочившему с лошади, – ей представилась единственная возможность отомстить!..
4
За время службы десятник Юрша не раз бывал близ царя при его охоте. Это были пышные выезды с соколами и собаками, с огромной свитой бояр и прислуги, со многими сотнями пеших и конных загонщиков. А вот на волчью травлю с малым народом он попал впервые.
Царь остановился на высотке, Юрша позади него, как положено, на три-конь. Ближе к царю – Спиридон. Чуть в стороне бояре, охрана и слуги боярские. Все затихли в ожидании.
С первым лаем гона из кустов на поле посыпалось всякое зверье. Больше всего зайцев, они в разных направлениях прошивали поле. Лисы выскакивали реже, петляли, делали большие прыжки – запутывали следы. Темными молниями мелькали дикие козы. Иногда дичь бросалась под ноги лошадей. Лошади шарахались, охотники оживлялись, слышался приглушенный смех.
Всеобщее внимание привлекла дрофа. Огромным серым комом она не то перебежала поле, махая крыльями, не то пролетела низко над землей. В этих местах дрофа была редкой птицей, и заядлые охотники с сожалением проводили ее взглядами, но никто не погнался за ней, потому что всего три дня, как начался Петров пост, и еще почти месяц грешно есть скоромное.
Правда, когда выскочила на поле многочисленная визжащая семья вепрей, псари окружили и забили секача: Афанасий загодя получил на это разрешение царя.
Постепенно лай двух свор сближался. Вот между ними осталось с четверть версты, вот еще меньше, а волков все нет. У боярина Морозова озноб начался и шуба не помогла: а вдруг ушли? Что тогда будет! Тут забыл он и про дочь свою непослушную, которая как ни в чем не бывало остановилась неподалеку от него.
Когда своры сошлись и послышался визг собачьей грызни, Морозову стало плохо, он чуть не свалился с коня. Поэтому и не видел, как появились два волка, не видел, как рванулся за ними Иван. Немного пришел в себя, когда мимо промчались все, а с ним остался только верный слуга, с которым они и затрусили за охотниками.
5
…Аргамак царя летел птицей, Юрша начал отставать. Спиридон, изо всех сил нахлестывая своего коня, помчался краем поля, чтобы отрезать волкам путь отступления в приречные кусты. Юрша никогда не бил своего Славича, а тут стегнул. Будто понимая ответственность момента, конь в галопе стлался по траве, но расстояние до царя не уменьшалось. Оглянувшись, Юрша заметил: вся молодежь боярская мчится за ним, пока никто не нагоняет, лишь Даниил Патриков вот-вот поравняется – конь у него хорош!
А царь уже над волком, замахнулся чеканом… Вдруг аргамак его дернулся и упал на колени, тут же вскочил, но бежать дальше не мог, запрыгал на трех ногах, завизжал от боли.
Иван удержался в седле. Он еще не понял, что с конем, но вспомнил, о чем загадал перед охотой, и с болью ощутил: волк уходит, уйдет и Казань! Принялся свирепо бить коня чеканом. Через несколько секунд Юрша догнал царя, одернул свое тело с седла на круп лошади и закричал:
– Садись!
Смена лошадей на скаку – обычный прием, известный каждому коннику, но тут-то царь! Это Юрша сообразил поздно. Однако Иван не задумываясь перекинул через свое седло ногу, ухватился за луку седла десятника и очутился на его коне. Юрша соскользнул в сторону и только на земле по-настоящему испугался своей дерзости: крикнул царю как простому вою!
Пока Иван пересаживался, Даниил пронесся мимо. Царь видел, как он догнал волков, и те шарахнулись в разные стороны. Даниил успел одного из них ударить чеканом по голове, проскочил, развернул коня и погнался за другим. Но тот, почуяв смертельную опасность, припустился изо всех сил. Ему наперерез мчались три лучника. Даниил, поняв, что волк уходит, заорал:
– Стреляйте, дьяволы!
Лучники на скаку подняли луки и одновременно пустили стрелы. Волк высоко подпрыгнул, перевернулся в воздухе, упал, еще некоторое время перебирая ногами, пока не затих. Даниил увидел: одна стрела торчала в голове волка, две – в ребрах.
Добрые лучники у государя!
6
…Юрша направился к цареву коню. Тот возбужденно прыгал, становился на дыбы, пытался укусить поврежденную ногу и пронзительно ржал; он покрылся потом, клочья пены спадали с удил. Завидя незнакомого человека, бросился на него. Юрша увернулся и отбежал. Около остановился Аким, старший его десятка, хотел спешиться, но Юрша, жестом удержав его, сказал:
– Скачи к царю, будешь возле него. Ко мне пришли двоих.
Аким ускакал, а Юрша прошел назад, туда, где конь упал на колени, и около полузасыпанного землей валуна обнаружил нору. Лучше рассмотреть ее помешал окрик:
– Что с Вороном?
Юрша оглянулся и не поверил своим глазам: на коне, одетая мужиком, сидела Таисия, боярышня! Чернобровая, порозовевшая от быстрой езды, она смотрела на него огромными сердитыми глазами.
– Чего уставился? Оглох? С государевым конем что, спрашиваю?!
– Здравствуй, боярышня. Конь в нору ступил. Видать, ногу сломал.
– Бедный! – Она спешилась ловко, по-мужски, и, бросив поводья подоспевшему Ваську, пошла к коню. Юрша преградил ей дорогу:
– Туда нельзя, боярышня. Он сбесился от боли.
– Меня не тронет. Я его хлебом баловала. – Она побежала, Юрша следом.
В это время в кустах рядом возник собачий лай с повизгиванием, его заглушил вопль Васька:
– Берегись! Волк!
Юрша увидел в траве серую спину зверя саженях в двух от Таисии. Выхватив саблю, он дико вскрикнул и бросился на волка. Таисия повернула назад, волк – за ней. Боярышня – к Юрше, а тот, обхватив ее левой рукой, сбился с точного удара – сабля скользнула по хребту зверя. Вторым разом уже около самых ног вонзил острие в оскаленную пасть волчицы. Она, разбрызгивая кровь, из последних сил грызла землю, потом замерла. Известно: волки умирают молча.
Только теперь Юрша почувствовал, что боярышня безжизненно повисла на его руке. Воткнув в землю окровавленную саблю, он подхватил Таисию и понес к коням, которых Васек не мог подвести ближе, – они, чуя волка, в страхе шарахались…
На руках у Юрши Таисия пришла в себя, быстрым взглядом окинула русую бороду, озабоченное лицо своего спасителя, доверительно и благодарно обняла его за шею, прошептав: «Спаси тебя Бог. Отпусти, я сама…» Но Юрша только крепче прижал ее к себе – уж очень приятной оказалась ноша. Задержался несколько близ коней. Васек успокаивал их. Боярышня не противилась, ее рука так и обвивалась вкруг его шеи. Но попросила еще раз: «Хватит… Отпусти…» И опять не послушался: легко поднял боярышню, посадил ее в седло. Поклонился, отошел к оставленной сабле, смущенный и встревоженный.
Таисия не уезжала. Она видела, как псари отогнали рассвирепевших собак от убитой волчицы, как десятник и два подоспевших стрельца успокоили Ворона, расседлали его. Хотели осмотреть поврежденную ногу, но тот не позволил, поднялся на дыбы. Его оставили в покое. Юрша, вскочив на коня, подведенного стрельцом, подъехал к Таисии. Не без тайной радости заметив, что она с большим интересом рассматривает его, поклонился, негромко сказал:
– Мне надо к государю, боярышня.
– Благодарствую тебе, десятник. Ты спас мне жизнь.
– Готов служить тебе, Таисия Прокофьевна! А сейчас дозволь отъехать. Мои вои повезут сбрую с царева коня и тебя проводят. Прощай.
Юрша ускакал. Таисия долго смотрела ему вослед.
7
Даниил только оглушил первого волка. Тот сразу после удара чеканом упал, но тут же поднялся и, покачиваясь, побежал к кустам, постепенно набирая скорость. Царь Иван, теперь уже на лошади десятника, нагнал его. Волк огрызнулся, а затем прыгнул, пытаясь напасть на лошадь. Но Иван ловким ударом чекана размозжил ему голову. Это произошло на глазах других охотников, под их многоголосое одобрение.
Когда Даниил подъехал к свите, на него никто не обратил внимания. Многие громко обсуждали охотничью ловкость государя. Ведь надо же, потерял коня, пересел на другого и все-таки догнал и убил волка! Даниил попытался объяснить, что это он помог государю, но его никто не хотел слушать. Раздосадованный, он приблизился к своему дяде и громко сказал:
– Это я первым ударил волка. Я задержал его!
Боярина Прокофия всего передернуло, он свирепо зашептал:
– Чего болтаешь, несуразный! Все видели, как государь догнал и прикончил зверя самолично! – И, переведя дыхание, сказал: – Ты, племяш, придержи язык! Да ховайся отсель!..
Этот разговор произошел, когда лучники подтащили волка к царю и старший объяснял, как им пришлось пустить стрелы. Поэтому Иван не разобрал слова Даниила, но насторожился от шепота боярина, весь превратился в слух и понял, о чем речь. Прокофий, перехватив мрачный взгляд царя, в страхе замахал руками на племянника:
– Ступай, ступай! Не до тебя! Тут Таисия где-то, уведи ее домой.
В этот момент подкатила подвода с бочкой кваса. Слуги начали раздавать охотникам ковши. Прокофий подал Ивану отдельно привезенную сулею, сперва отпив из нее пару глотков – пусть видит, что без отравы.
8
Травля закончена. Псари дудками собирали разбежавшихся собак и вели их к туше вепря на кормежку. Замолкли голоса людей и стрекотание трещоток. Загонщики, тонинские мужики и бабы собрались в указанном месте пониже холма, по другую сторону которого находились царь и бояре. Тут возле родничка их ожидала подвода, каждый загонщик подходил и получал краюшку только что испеченного душистого хлеба и пару луковиц со щепотью соли. Садились и ели в тишине, стараясь не уронить ни одной крошки на землю – то великий грех.
Утолив голод, пили из родника и разговаривали негромко. Вспоминали, как метались напуганные звери и как они сами пугались зайцев; приглушенно смеялись. Не расходились потому, что приказано тут встретить поклоном царя-батюшку.
Бабы и молодицы собрались отдельно, иные переглядывались с парнями. Однако даже здесь, на приволье, вдали от родителей, игривость молодежи гасла под строгими взглядами пожилых односельчан. И тут кто-то из баб низким голосом произнес речитативом всем знакомые слова. Будто дожидаясь этого, остальные сразу подхватили хором, и над полями и рекой к голубому небу понеслась песня такая же бескрайняя, как просторы вокруг:
Ой-да, послали меня молоду
в поле полоть лебеду-траву.
Ой-да, целый день гнула спинушку,
а домой пришла – муженек бранит:
Ой-да, почему ты не улыбчива?
Почему мужу не услужлива?
Ой-да, к мужу я приласкалася,
поднесла воды, сапоги сняла.
Ой-да, дети малые в избе
слезами заливаются.
Ой-да, во дворе-то коровы
ревьмя ревут, надрываются.
Ой-да, коровушек подоила я,
детишек уложила спать.
Ой-да, свекор-батюшка волком рыкает.
Я молода ему улыбнулася.
Ой-да, свекровушка то заметила,
понесла меня на чем свет стоит!
Ой-да, со свекровушкой я поладила,
уложила в постель, ноги вымыла.
Ой-да, а потом свекору уважила…
Перестал рычать, стал подхваливать.
Ой-да, все поделала, все уладила,
и самой пора прикорнуть-уснуть.
Ой-да, прикорнуть-уснуть
не пришлося мне:
Ой-да, заиграл пастух
да в золотой рожок.
Любит русский человек послушать задушевную песню и подтянуть, хоть вполголоса. Замолчали самые говорливые из мужиков, подошли поближе к бабам. Окрепла песня, окрасилась многоголосием, переливами и повторами, шутливая и задорная.
9
Туда, где лежали два убитых волка, псари подтащили и волчицу. Старший псарь, сняв шапку, стоял потупившись. Царь заметил его:
– Говори.
– Государь, зверя посек твой десятник Юрша.
На удивление свиты, эти слова не рассердили, а, наоборот, обрадовали Ивана, его глаза весело сверкнули:
– Десятник, говоришь? Юрша, ты где?
– Тут, государь.
– Ну-ка подь ближе. – Дети боярские с заметной неохотой отвернули коней, пропуская десятника. – Скажи нам, как ты в нашу забаву впутался?
– Помилуй, государь. Я защитил… – На долю секунды замялся Юрша, потом, смутившись, закончил: – Защитил твоего коня. Волк набросился на него, государь.
– Молодец! Везде поспеваешь. Вот только шкуру попортил.
– Виноват, государь. Поспешил.
– Ладно. Придется простить. Я у тебя в долгу, Юрша, твой конь подо мной. Боярин Прокофий, дашь десятнику лучшего коня в полной сбруе. Да чтоб пригляднее вот этой. – Иван тряхнул уздечкой. – В другой раз чтоб не зазорно было государю держать.
Боярин Прокофий подался вперед:
– Государь, изволь пересесть, для тебя коня пригнали. Лебедем его зовем.
– Для меня? Давай сюда Лебедя.
Два конюха подвели серого в яблоках жеребца. Он, казалось, нарочито красовался перед царем: мелко семенил ногами и лебедем изгибал шею. Царь крутанул рукой, конюхи повели коня вокруг волчьих трупов, Лебедь затрепетал, захрапел, конюхи еле удерживали его. Иван восхищался:
– А, хорош, красавец! Правда, Юрша?
– Достоин царя, государь.
– И тебя достоин. Бери!
Окружающие ахнули, боярин Прокофий руками всплеснул, чуть с коня не свалился. Юрша взмолился:
– Помилуй, государь…
– Я сказал!.. Садись, посмотрим, каков ты на коне герой.
Юрша подошел к Лебедю, похлопал ладонью его по шее, слегка влажной от напряжения. Заглянул в большой глаз с кровяной искрой, тихо говоря ласковые слова, подобрал уздечку. Взялся за луку и, не дотрагиваясь до стремени, с земли взлетел в седло. Лебедь присел, заходил из стороны в сторону, таская за собой конюхов. Юрша натянул шитые золотом поводья, успокоил коня и сказал:
– Пускай.
Лебедь затанцевал, пошел боком, попытался скакнуть, но, почувствовав крепкую руку, смирился. И тут Юрша сделал поступок, на который решился бы не каждый всадник: он направил Лебедя к царю прямо через трупы волков. Зрители замерли, все понимали, что это значит, особенно для горячего коня. Лебедь встал на дыбы, сделал попытку отвернуться, захрапел. Но Юрша не менял направления, легонечко трогал коня плеткой, тот уступил и красивым прыжком перемахнул через трупы. Кое-кто не удержался от возгласа удивления. Юрша остановился перед царем, в поклоне пригнулся к шее коня и, выпрямившись, сказал:
– Государь, твой слуга не достоин такого подарка. Этот конь должен носить царя.
Боярин Прокофий закивал и скороговоркой:
– Истину, истину говорит десятник. Я ему другого коня дам, два дам…
Иван деланно засмеялся:
– Слыхали? Боярин с царем не согласен! От себя еще деньгу десятнику жалует! Ну как, Прокофий, одной деньги не мало ли?
Боярин залебезил:
– Не мало, государь, не мало.
– То-то… А ты, Юрша, сей день сослужил мне изрядную службу, больше той, о которой ведаешь. Этот конь – малая награда.
Юрша не понял намека, однако у него хватило толку с поклоном сказать:
– Благодарствую, великий государь! Пока жив, верным слугой тебе буду! Разреши на место встать.
Иван не ответил, только рукой махнул. Под завистливыми взглядами детей боярских Юрша малым галопом проскакал кругом и встал позади царя рядом со Спиридоном, тот наклонился к нему:
– Ловок ты, десятник! Всех обскакал! Ну, теперь держись!
Иван с усмешкой оглядел притихшую свиту.
– Что ж, бояре, травля удачной была. Спаси Бог тебя, Афанасий. Теперь и отдохнуть не грех.
Тронул коня, рядом с ним поехали отец и сын Морозовы, остальные начали занимать свои места по чину. В это время ветерок донес песню селян. Иван придержал коня, прислушался. Прокофий возмутился:
– Поют, треклятые! Про пост забыли! Афоня, утихомирь!
Иван остановил боярина:
– Не надо! – Некоторое время он задумчиво прислушивался к пению. – Вот этим могуча Русь. Целый божий день гонял ты их, Афанасий, для нашей потехи, а отдохнули чуток и запели… Они знают, Прокофий, что Петровки на дворе. Это у них русская душа поет.
Царь тронул коня и медленно поехал навстречу крепнувшей песне. Все двинулись за ним в полном молчании, только всхрапывали кони.
Неподалеку понуро стоял на трех ногах царский аргамак. Иван подъехал к небу. Конь даже не поднял головы, у него из глаз катились слезы. Иван, быстро отъехав, приказал:
– Ворона доставить в конюшню, ногу залечить, кормить и холить до смерти.
Как только царский поезд показался на холме, песня оборвалась. Селяне зашевелились, выстраиваясь вдоль дороги. Царь говорил, будто думал вслух:
– Вот и замолкли, государя увидали. Сейчас на колени падут. Жаль, денег не взял. Прокофий, одари их потом от моего имени. Смотри, не жадобь, проверю.
10
Царский дворец в Тонинском обширен: буквицей Т – «твердо» стоял он на холме между реками Яузой и Сукромлей. Слева, со стороны Яузы, царева половина, справа – боярина Морозова. Между ними – трапезная. От трапезной к Сукромле – жилье для охраны царской, дальше покои для знати, позади – холопья изба. Между всеми покоями коридоры, чуланы, переходы хитрые с лесенками и уголками укромными.
В царских хоромах большие комнаты, с окнами светлыми, слюдяными. Но Иван облюбовал себе каморку между трапезной и охранной, с оконцем маленьким, бычьим пузырем затянутым. Назвал эту каморку кельей своей – тут и прохладнее, и надоедливых мух поменьше. Находилась она возле главного перехода, вели к ней две двери, у обоих выставили рынд, которые строго шикали на снующую мимо дворню.
После охоты Иван прошел в келью, отказавшись от перин, велел бросить на лавку медвежий тулуп, а под голову – толстое одеяло. Он лежал в полудреме, отдыхал от обильного ужина.





