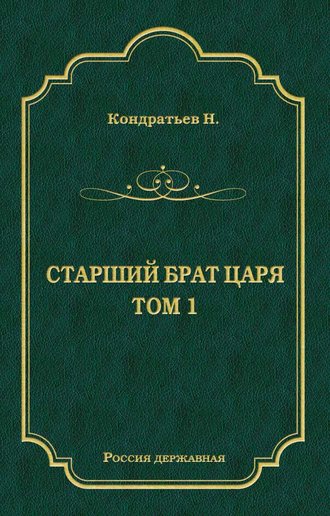
Николай Кондратьев
Стрелецкий десятник
Рядом с ложем стоял на коленях Спиридон. Он только что разул царя, снял расшитые ичиги, теперь старательно священнодействовал – протирал ноги государя влажной ширинкой. Тут требовалось большое искусство – повелитель боялся щекотки, и нужно исхитриться так, чтоб не побеспокоить царя. Спиридон овладел этим в совершенстве, то была главная причина, выдвинувшая рядового служку в особо доверенные. Протирая ноги, Спиридон тихим воркующим голосом поведывал царю дворцовые новости, в этом деле он также достиг большого мастерства.
– …А еще, пока ты волков травил, ката твоего Мокрушу помяли крепко. Говорят, на девичьей половине застукали. От девок он отбился, а тут конюхи подоспели, ката подручные насилу выручили. А еще вот, твоего Ворона на волокуше привезли, в станок поставили, коновал ногу пользует… А еще, боярин Прокофий на Юршу злобится, не по чину, мол, одарил ты его. А Юрша, само собой, ног не чует, рад… Однако ты не очень доверяй ему: обманул он тебя…
Услыхав такое, Иван сразу насторожился, открыл глаза. Спиридон будто не заметил заинтересованности царя, замолк, старательно орудуя ширинкой между пальцами. Иван строго поторопил:
– Ну, чем обманул? Откуда взял?
– Это Юрша-то? Волк вовсе не на коня напал, а на боярышню Таисию. Их малайка Васек про то сказывал. Боярышня, вишь, мужиком вырядилась, на травлю увязалась… – Спиридон, основательно привирая, рассказал о происшедшем.
Иван, узнав главное, потерял интерес к дальнейшему. Под монотонное журчание голоса он задремал… Увидел себя на охоте, волк уходит, Казань уходит, а Ворон пнем стоит, плетку измочалил о него, он же ни с места. Вдруг сбоку Данилка, боярский сын, насмехается, лицо его вытягивается и превращается в волчью морду со страшным оскалом. Дрема соскользнула, и слышит Иван:
– …А еще, юродивая пришла… – Иван повел рукой. Спиридон, не заметив, продолжал: —…Грыжу боярину вылечила…
Иван сильно толкнул ногой Спиридона в плечо, того как не бывало: подхватив бадейку с водой, платы, ширинки, он исчез.
Минуту спустя государь захрапел как простой смертный.
11
Скрипнула дверь. Спиридон, будто подтолкнутый, оказался перед вошедшим. Узнал духовника царя, попа Сильвестра. Царь разрешил священнику приходить к нему в любое время дня и ночи, но здесь, в Тонинском… Спиридон тихо предупредил:
– Государь изволит почивать.
Сильвестр посохом отстранил его, с поклоном перекрестился на иконы, повернувшись, перекрестил Спиридона и сказал довольно громко:
– Пусть спит, посижу аз.
Прошел в передний угол, поправил фитилек лампады, опустился на скамью и, поставив перед собой посох, оперся на него подбородком. Спиридон недовольно отступил в угол.
Иван спал чутко. Появление Сильвестра обеспокоило его: зачем старик приехал на ночь глядя? Наверное, что-то важное привело его из Москвы… Однако не хотелось расставаться с приятной дремой и вести серьезный разговор.
Сквозь смеженные веки он смотрел на священника. Мигающий свет лампады падал на лики святого Николая и Сильвестра. Что-то общее было между ними. Может, спокойная мудрость?.. Или твердая уверенность в тленности всего сущего?.. Ряса у Сильвестра сильно поношена, простой железный нагрудный крест без единого камешка… Вот ведь человек: духовный наставник царя, а для себя ничего не хочет. Приношений не приемлет, званий церковных не ищет. Так и числился простым пресвитером Благовещенского собора… А может, и впрямь святой?! Эта мысль испугала Ивана: святой сидит смиренно, ждет, а он, царь, как последний раб, притворяется спящим!
Иван решительно поднялся с ложа, подошел к Сильвестру:
– Благослови, отче.
Сильвестр медленно поднялся, не отрывая сурового взгляда от лица царя, благословил: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно». Протянул крест, Иван поцеловал его и, приложившись к сухонькой руке священника, спросил:
– Как здоровье твое, отче? Все ли ладно на Москве?
– Живот мой в руце Господней. На Москве все ладно. Царица наша, жена твоя Анастасия, и преподобный митрополит Макарий со всеми иерархами ждут. – Голос Сильвестра окреп, появились обличающие ноты. – На завтра ты, государь, назначил молебствование о даровании победы воинству христианскому над казанцами, неверными агарянами. Все уже в сборе днесь, а государя нет! Государю недосуг, гонцов шлет! И что же узнаю? Ввергли его люди злые в греховные игрища. Про пост забыл, Божьих тварей предавал смерти мучительной. Господи! Прости грехи его вольные и невольные!
Сильвестр отвернулся от царя к иконам, долго крестился, читая молитву.
Спиридон из своего темного угла видел слегка сутулую черную фигуру попа и покорно стоящего царя, который в смущении, как провинившийся, оправлял рубаху под пояском. И так-то не в первый раз. Удивительно! Какая же сила должна быть у этого старца, чтобы держать в руках всесильного повелителя! Спиридону стало страшно, он принялся креститься.
Сильвестр закончил молитву. Иван пригласил:
– Присядь, отче. Спирька, скамью! – Дождался, пока сел священник, опустился на свое ложе и начал объяснять: – Про пост я не забыл, как можно, отче. Твари Божьи не трогал. Травили мы волков, стая объявилась, скотину резала, селян тревожила…
Иван, заметив, что священник слушал его рассеянно, замолк.
Сильвестр тяжело вздохнул:
– О Господи, Господи! Посылаешь Ты нам кары великие за наши прегрешения большие и малые. Поехал тебя встречать, в селе Алексеевском ждал. Там твоего посыльного перехватил, вот сюда приехал. Худые вести, государь. Крымский хан Девлет на нас идет. Скопинский засечный воевода прислал гонца…
– Где гонец?
– Притомился. У меня в колымаге спит. А свиток вот.
Из рукава рясы Сильвестр достал свернутую трубкой бумагу с печатью на шнурке и подал царю. Спиридон, не дожидаясь приказания, зажег от лампады свечи. Иван сорвал печать и углубился в чтение. Сильвестр, положив подбородок на посох, следил за ним. На худом лице царя под редкими волосами зашевелились желваки, темные брови сошлись на переносице. Резко приказал:
– Спирька, выдь. – И уже мягче обратился к Сильвестру: – Что гонец говорил?
– Неспокойно у них, крымцы зашевелились. Людишки с Дикого Поля бегут.
– А еще?
– Воев мало, огневого зелья совсем нет…
– А изменницкий князь? Гонец ничего не сказывал?
– О Господи, спаси и помилуй! Какой князь?
– Вот слушай, что пишет воевода: «И гонят крымцы с собой русских полоняников. Среди них князь Михаил Иоаннович Рязанский-Бельский. Будто он сын Иоанна Иоанновича, великого князя Рязанского, бежавшего в Литву от твоего батюшки, государя Василия Иоанновича, и будто он зять боярина князя Симеона Федоровича Бельского, бежавшего так же в Литву от твоей матушки, государыни Елены Васильевны. И рассылают крымцы бирючей-полоняников с татарской охраной по заимкам и весям. Читают те бирючи грамоту, в грамоте называет Михаил Иоаннович себя великим князем Рязанским, Белёвским и Тульским. Поносит, хулит тебя по-всякому и приказывает всему люду русскому присягать ему. Присягнувших татары не полонят и не разоряют». Что мыслишь по сему, отче?
Сильвестр долго молчал. Иван знал, что сейчас последует рассказ об очередном видении. Но священник вздохнул, встрепенулся и встал. Иван поднялся тоже.
– Государь, – торжественно произнес Сильвестр, – Господь наставил тебя совершить священный поход на Казань. Выступления хана Крымского суть козни врага рода человеческого, диавола. Не к ночи будь он помянут! – Поп перекрестился и перекрестил Ивана. – Но поход тот дело богоугодное, и никто не помешает свершить его. Ты веди войска на Казань, а орды хана Девлет-Гирея рассеют твои воеводы. Нет такой силы, которая могла бы сравниться с промыслом Всевышнего…
Сильвестр еще долго пророчествовал победу над неверными. Иван же был поглощен другим. Как только священник остановился перевести дух, он спросил:
– Отче, скажи все ж, что мыслишь о князе-изменнике?
Сильвестр помедлил с ответом:
– Нет людей на Руси, кои поверят лживому вымыслу.
– А присягают все ж.
– Слабость являют, боятся в полон идти. А распространители лжи, полоняне-бирючи, суть иуды-предатели, продавшие веру и отчизну за сребреники.
– Истину, отче, истину речешь. Чем сановитее предатель, тем больше сребреников. А сколько перебежчиков есть и будет, одному Богу известно. Потому страх должны иметь: князь-россиянин поднял меч против государя своего – несть прощения ему! – Иван поднялся с ложа, продолжал говорить, с каждым словом воодушевляясь: – От прощения добра не бывает. Матушка моя, государыня Елена Васильевна, Царство ей Небесное, обещала Семьке Бельскому забытие делов его. А он, раб бессовестный, пренебрег! И, выходит, породнился с Ивашкой Рязанским, за поимку коего батюшка большие деньги обещал, а султан Оттоманский перебил, больше выкуп дал. Виновных надобно карать, до третьего колена род их выкорчевывать, чтоб каждый помнил, на что идет!
Сильвестр тоже поднялся и перекрестился:
– О Господи! Жестокосердный ты, государь мой, с детства ожесточили тебя. И скор ты на кару, а надобно без злобы, с молитвой. Пойдем в молельню и обратимся к Всевышнему.
– Пойдем. Но прежде я указ дам. – Иван хлопнул в ладоши. Появившемуся Спиридону приказал: – Позвать боярина Прокофия, десятника Юршу, дьяка Ефрема, и сам придешь. Ступай… Хочу, отче, послать, чтобы выловили мне полоняника-иуду, что читает прелестные грамоты. Поспрашаю про Мишку-князька… Юршу-десятника пошлю. Справится ли?
– Знаю такого, на гони быстер. Прошлым летом посылали мы его в Переяславль-Залесский к нагорнинскому настоятелю. Так он обыденкой обернулся, а туда без малого полтораста верст.
– Вот пусть свою прыть покажет. Отметил я его днесь, дорогим конем одарил.
– У тебя, Иоанне, свыше талант даден: отбирать и возвышать верных рабов своих. Ты не ошибся, выделив из стрельцов и приблизив Юршу Монастырского. Надежный воинник – говорю тебе аз.
– Отче, а разузнал ли ты, какого он роду-племени?
– Малое удалось. Подбросили его будто в Суздальский монастырь. Малолетство провел в женском скиту на Белоозере, потом послушником стал в Кирилло-Белозерском монастыре. Там приметил его старец Пантелеймон и благословил на службу стрелецкую вместе с десятком служителей монастырских. Живет он ныне в семье стрельца Акима, воя из его десятка.
– Значит, подкидыш. А могло случиться – вымер род, может, знатный, от холеры или от другого чего, остался последыш. Передали его в монастырь с имением. Старцы имение прибрали, а род последыша предали забвению. Вот и получился Юрша Монастырский. Могло такое статься, а?
– Люди во грехе зачинаются и во грехе пребывают всю жизнь! Стены монастырские от греха не отгораживают. Может, и так.
– Ты все ж, отче, выведывай. Ежели кого нужно, попытать можно… А так Юрша толковый, и, правильно ты говоришь, легок на ногу. Вот приведет бирюча, ближним человеком сделаю… А все ж надежности для отпишу воеводе рязанскому, пусть и он озаботится тем.
12
Стрелецкого десятника Монастырского государь приметил в прошлом году 2 февраля, на Сретение Господне. Тогда день выдался хоть и с морозцем, но солнечный, яркий. На Москве-реке против башни Свибловой лед расчистили, игрище затеяли, на кулаках сходились добры молодцы.
Народу набралось и на берегу и на реке – туча темная, аж лед трещать начал. Сам государь Иван Васильевич пожаловал – любит он смотреть на забавы богатырские.
Под конец игрища иноземные гости испросили у царя дозволение показать люду московскому рыцарский бой. На лед вышли фряги из охраны гостей почетных и начали «фехтен» – биться на саблях. Тут же на льду их судьи признали победителем сивоволосого долговязого фрязина. Он с достоинством поклонился царю русскому и стал вызывать на поединок русских витязей. Вызвались двое детей боярских, Вукола да Любомысл. Долговязый с Вуколой мигом расправился, в сугроб загнал, саблю из рук выбил. С Любомыслом немного больше бился, порезал ему кафтан на плече, кровь показалась, и судьи признали Любомысла побежденным. Крикнули клич еще. Народа много, а никто не отзывается, поняли войны, что сивоволосый ловок и саблю в руке крепко держит.
Царь Иван сердиться начал, посулил смельчаку рубль серебром, воевод трусами обозвал… Чем бы дело кончилось, неизвестно, если бы не выручил стрелецкий голова. Он сказал царю, что его десятник Монастырский может помериться силами с фрязином.
Юрша вышел на лед. На полголовы ниже иноземца он, а в плечах, может, ему ровня. Долговязый смело пошел в наступление, Юрша отступил. Все людское скопище притихло так, что стал слышен галочий гомон на деревьях вдоль Неглинной. Десятник скоро приноровился к ударам фрязина, ловко начал отражать их, и догадался, что у того сабля небось вершка на два длиннее обычной русской. Целый круг пятился, потом перешел в наступление, оттесняя долговязого на середину очищенного поля. Здесь фрязин, парируя удары, задыхаясь, прохрипел:
– Московит… давайт… отдых.
Юрша согласился и сразу отступил. Фрязин наклонился, загреб горсть снега, часть положил в рот, остальным вытер лицо. Юрша тоже хотел вытереться рукавом. Только прикрылся, тот зверем бросился на него. Скрипнувший под ногой фрязина снег спас Юршу. Он вовремя отпрянул в сторону, но, поскользнувшись, упал, а иноземец продолжал наносить удары.
Люд московский сроду за справедливость, а тут лежачего бьют! Стражу растолкали, на помощь рванулись. Такой рев грянул, что по Неглинной и в Кремле иней с деревьев посыпался, воронье в небе закружилось. Но помощь не потребовалась. Юрша отбил нападение, откатился в сторону и, улучив момент, вскочил на ноги и тут же сам кинулся на противника. Тот понял, что здорово разозлил соперника: не справившись с лежачим, тем более не одолеет его в равном бою. Сделав последний выпад, он со всех ног бросился к судьям, которые в это время вышли на лед.
Юрша бегать не разучился, он догнал фрязина и со всей силой стегнул его по спине саблей плашмя. Тот упал и распростертым скользнул под ноги своим.
Иван наградил Юршу не одним, как обещал, а двумя рублями серебра, которые тому очень пригодились – они вместе с Акимом ставили новый дом в Стрелецкой слободе. И еще царь повелел с этого дня Юрше и его десятку стрельцов находиться в своей охране.
13
Изба для охраны в Тонинском дворе большая, нары во всю стену двухъярусные, на сорок воев. Огонек лампады освещал лишь образ Богоматери и Георгия Победоносца в переднем углу да выскобленный до белизны стол и скамьи вокруг, а уж по углам шевелилась густая темень.
После ужина Юрша облюбовал себе место на нижних нарах в самом темном углу. Вои его десятка рядом повалились, ребята половчее наверх забрались. Все разом уснули, а Юрше не спится, перебирает он в памяти события дня. Какую награду получил! Серого в темных яблоках коня, лучшего в тонинской конюшне!.. И вдруг Лебедя заслонил образ боярышни. Он вновь ощутил на своих руках теплую тяжесть ее тела, увидел совсем рядом голубые глаза и черные ресницы… Так живо все представилось ему, что аж крякнул от удовольствия. Около него зашевелился Аким, зашептал:
– Не спишь чего?
– Да вот… – и слукавил: – Коня… хорош вельми.
– Этот конь нам заботы прибавит. В поход его брать нельзя.
– Пошто так?
– Рассмотрел я его: жидковат. Мало ездили на нем, на первой же полтысяче верст засекется.
– Не возьмем, а вдруг царь спросит, где подарок? Что тогда?
– Так и объяснишь… Меня другое гложет. Царь Лебедя отдал против воли боярина Прокофия, а нам не с руки его сердить. Может, поговоришь с Прокофием? Коня ему оставить. Вернемся из похода, он расплатится с тобой. А, Юр Василич?
– Жалко.
– Вестимо, жалко.
Юрша начал подыматься с нар:
– Пойду посмотрю все ж.
Он никогда не возражал Акиму, так уж повелось с детства. Тому под пятьдесят, а Юрше в апреле, в день великомученика Георгия Победоносца исполнилось двадцать шесть. И как он начал помнить себя, в Кирилло-Белозерском монастыре всегда рядом находился Аким – учил стрелять из лука, махать саблей, впервые посадил в седло… Тогда Аким большую часть времени уделял Юрше. Получилось так, что маленький послушник хотя и жил в монастырской келье вместе с другими, но имел своего дядьку-воспитателя. Потом Аким женился, но детей у него не было, и со временем все стали считать Юршу его приемышем. Точно так же думали и соседи в московской Стрелецкой слободе, где Аким с Юршей строились.
На службе Аким относился к приемному сыну с заметной почтительностью, величал по отчеству, как начального человека; это тоже не удивительно, ведь он стал десятником, а Аким ходил у него в подчинении.
Но Юрша, как и ранее, во всяком деле к советам наставника не оставался глух.
А сейчас видишь чего посоветовал Аким… Отдать царский подарок!.. И как только язык повернулся!
На ходу застегивая терлик, Юрша вышел на крыльцо в раздумье. И вдруг перед ним возник Васек, парень лет шестнадцати, рыжий, веснушчатый.
– Тебя ищу, десятник. На конюшню иди к Ворону, там жди. – Сказал и хотел уйти, но Юрша поймал его за плечо, повернул к себе:
– Кого ждать, вьюн?
– Ой, больно! – пискнул тот. – Не велено сказывать. Там узнаешь.
Васек хитро подмигнул и исчез. А Юршу охватило беспокойство. Еще на охоте он понял, что Васек – доверенный слуга боярышни. Нетрудно догадаться, кто его станет ожидать.
Дворцовая конюшня занимала угол двора, составленного «глаголем», и имела несколько отделений. Юрша еле разыскал в них Ворона. В тусклом свете масляной плошки он увидел коня, стоящего на трех ногах с низко опущенной головой. Около возился конюх. Тот поднял голову, различил на нагруднике вошедшего отличительный знак царской охраны – единорога, но почему-то выругался и продолжал свое дело.
Ждать пришлось недолго. Скрипнула дверь, вошел Васек, за ним четыре женщины, закутанные в шали. Парень от плошки засветил смоляной факел. Женщины опустили на плечи шали. Юрша узнал боярыню Марию, жену Афанасия, и боярышню Таисию в сопровождении сенных девушек. Сняв мурмолку, он низко поклонился. Не обратив на него внимания, Мария и Таисия подошли к Ворону. Конюх, растерявшись, стоял перед ними, обняв бадейку, в которой плескалась вода. Его что-то спросила боярыня, он начал, заикаясь, говорить, что конь не ест и не пьет, скоро околеет, так уж лучше убить его собакам на корм. Заикание прервал звонкий крик боярыни:
– Пошел вон!.. Васек, коновала сюда!
Конюх уронил бадейку, обрызгав боярыню, и, ничего не поняв, стал пятиться к двери. Паренек передал факел девке, выскочил в дверь. Таисия повернулась к Марии:
– Сестричка, а вот это мой спаситель. Юрша, подойди.
Юрша приблизился с поклоном, а выпрямившись, смело посмотрел в глаза боярыне. Высокий кокошник поблескивал в факельном огне, губы презрительно сжаты. Окинула его с ног до головы, смелый вид не понравился и, не скрывая презрения, процедила сквозь зубы:
– Спаси Бог, десятник… Это тебе государь Лебедя отдал?
– Мне, боярыня. Однако ж я ухожу в поход и буду просить боярина Прокофия оставить Лебедя здесь. А, Бог даст, вернусь из похода, тогда решим, как с конем быть.
Таисия вся встрепенулась, улыбнулась ему и быстро заговорила:
– Вот, сестричка, я говорила тебе: он хороший, смелый, добрый!
Мария зло зыркнула на нее, Таисия, не заметив ее взгляда, продолжала:
– Он меня от волка спас! – И, повернувшись к Юрше: – Мы за тебя будем Бога молить. Он убережет тебя от вражеских стрел и сабель.
Юрша, приложив руку к груди, поклонился, в то время как сердце его буйствовало от радости. Тут вбежали коновал, старший конюх и Васек. Юрша увидел заглянувшего в дверь Акима, который делал ему какие-то знаки. Выслушав его, Юрша довольно громко сказал:
– Прошу прощения, государь зовет. – Еще раз поклонился и вышел.
Боярыня Мария заметила необыкновенное волнение Таисии и долгий взгляд, которым та проводила десятника. Возвращаясь в хоромы, она сказала, что не резон боярышне заглядываться на простого воя, даже на такого статного.
Аким же так и этак прикидывал: зачем государю понадобился, да еще ночью, Юрша? Ничего путного не надумав, направился к царевым покоям. От стражника узнал, что у Ивана Васильевича много народа. Аким спрятался в темном углу коридора. А вскоре он увидел, как ушел царь с Сильвестром и Спиридоном, а из другой двери появились Прокофий, Юрша и дьяк. Постояли, поговорили и разошлись. Аким в переходе нагнал Юршу. Тот на его немой вопрос ответил:
– С зарей выезжаем в Москву. Получим еще два десятка стрельцов, все в два-конь, едем в Дикое Поле. Обратно в Коломну должны привезти языка из татар.
Аким забеспокоился:
– Дикое Поле – конец немалый! У нас никто дорогу туда не знает. Да еще татар искать…
– До Скопина поведет нас тамошний гонец, здесь он. Дальше засечный воевода людей даст, грамоту ему повезу… Пошли спать, сказывают, утро вечера мудренее.
14
Было уже близ полуночи, когда Иван отдал все распоряжения, касающиеся отъезда Юрши. Царю хотелось спать, но Сильвестр потащил его в молельню, напомнив, что молитва в полуночный час особенно приятна Господу. Спиридон и один из стражников последовали за ним, второй побежал предупредить голову охраны, что государь покинул «келью».
В это время боярич Даниил распрощался с двоюродным братом Афанасием и пошел в отведенные ему покои. Он был здорово навеселе – выпили зелена вина немало, буйство распирало его, он вырвал свечу у сопровождавшего холопа, замахнулся на него, тот еле увернулся и последовал за боярином, но уже на почтительном расстоянии. По пути Даниил заглядывал во все чуланы и темные углы, надеясь поймать какую-нибудь зазевавшуюся девку. Сегодня он считал себя трижды обиженным: царь не приветил, хоть волка все ж он оглушил, боярин Прокофий на него накричал, а за что? И вот братеник отвел ему покои не на своей половине, как родственнику, а как гостю. И обидно и досадно, а спорить не станешь.
Афанасий же, выпроводив Даниила, походил по горнице, выпил квасу. Холопу приказал убрать со стола и хотел идти на половину жены, когда вбежал Спиридон:
– Беда, боярич! Из царской опочивальни пропала грамота, что привез гонец с засеки. Поможешь найти иль будить боярина Прокофия?
– Помогу. Грамота нужна царю?
– Ему.
– Откуда пропала?
– Оставил в «келье», а сейчас там нету. Стражник говорит, что проходил только твой холоп.
Афанасий быстро повернулся к холопу, убиравшему стол:
– Ты в царевой «келье» был?
– Нет, упаси Бог! Мы порядок ведаем. Боярич же Данила во все чуланы шастал, он и в «келью» заходил.
– Чего-нибудь вынес оттуда?
– Не, не видел. Кажись, одна свеча в руке была.
Спиридон заторопил:
– Где он? Пошли, боярич. Государь с меня голову снимет, да и тебя не помилует.
Пустились чуть не бегом, прихватив и холопа. Ворвались в светелку. Даниил стоял в переднем углу перед иконой с лампадой и читал свиток, услышав шум, поспешил спрятать его за спину. Спиридон прыгнул к нему, вырвав свиток, крикнул:
– Тот самый! – И выскочил за дверь.
Даниил опомнился и с пьяным криком: «Смерд! Как смеешь!» хотел погнаться за ним, но Афанасий удержал:
– Данила, в уме ли ты? Это свиток царя, он ищет его.
– Ну и что?! Нашел… А знаешь, что там…
– И знать не хочу. Ты, братец, пьян. Ложись-ка спать.
Афанасий и его холоп помогли Даниилу раздеться, уложили на постель. Тот все время порывался рассказать, что ему удалось прочесть. Афанасию было любопытно узнать, но через силу делал вид, будто то его не интересует. Он отпустил холопа и принялся уговаривать Даниила помолчать и уснуть, чем раззадорил пьяного еще больше. Но когда из пьяной болтовни Афанасий понял, что крымцы ведут какого-то самозваного великого князя Михаила Ивановича, ему стало страшно. Он решил уйти от греха подальше. Потихоньку отошел от кровати, отворил дверь и поймал за волосы метнувшегося было в сторону Васька.
– Почему не спишь?! Подслушиваешь?
Афанасий дал ему увесистую затрещину. Васек взмолился:
– Ой, не бей, боярин! Все скажу! Разбудил меня царев Спирька. Именем государя заставил тут быть. Замечать, с кем боярин Даниил говорить будет.
Афанасий сразу отпустил парня, сдерживая злобу, сказал:
– Ну, раз велел, стой тут. Да не усни смотри. Запомни: я пришел сюда вместе со Спирькой. Понял?
– Да, боярин.
– И сразу ушел.
– Сразу, боярин.
– А боярич Данила дюже пьян, тут же уснул.
– Уснул, боярин.
Вернувшись к себе, Афанасий не находил места. Малайка Васек, оказывается, Спирькин наушник! Никому не ведомо, что он может наговорить! И тронуть его теперь опасно. Вот незадача. Что он слышал? Как холоп ушел, дверь осталась приоткрытой! Может, с умыслом? Ой-ей-ей! Какие дела!
15
Царь Иван IV Васильевич, несмотря на свою молодость, просыпался рано, и окружение знало это. Все, кто хотел услужить, старались с восходом солнца быть вблизи его опочивальни.
Накануне Иван уснул поздно, после длительной молитвы. Из молельни он не пошел в «келью», а лег в спальне в большую квадратную кровать под розовым пологом. Проснулся как всегда – только ранние лучи солнца заглянули в окно. Приподняв край полога, Иван выглянул. Около самой кровати на медвежьей шкуре, свернувшись, сладко спал Спиридон. Однако стоило Ивану прошептать: «Спирька», тот уже стоял перед ним:
– Слушаю, государь.
– За Данилкой следят?
– Следят, государь.
– Ступай узнай, кто был у него. А Данилке скажи, чтобы шел ко мне.
Спиридон беззвучно оказался за дверью и тут же вернулся:
– Государь, боярич Афанасий просит допустить немедля.
Иван недовольно спросил:
– Что ему приспичило?
– Спешное дело, говорит.
– Пусть войдет.
Афанасий, сгорбившись, приблизился к кровати. Вид у него был помятый, болезненный, ночью глаз не сомкнул от раздумий. Остановившись, недоуменно смотрел и не мог сообразить, где же за пологом царь. Иван следил за ним в щелочку между половинами полога и размышлял: за чем пожаловал? Наконец разрешил говорить.
– Государь, скрытное дело, дозволь с глазу на глаз.
– Спирька, ты тут? Иди куда послал. – Царь сказал, а сам нащупал под подушкой большой нож, положил его удобнее. Афанасий согнулся еще ниже:
– Государь, вечор мы со Спирькой вошли к Даниле. Он читал твой свиток. – Афанасий замолк, молчал и царь. Потом настороженно спросил:
– Он говорил тебе, что в грамоте?
– Да, государь. По пьянке болтал несуразное.
– Что сказал?
– Говорил, что идут крымцы и ведет их Михаил Иоаннович, якобы великий князь.
Иван отвернул полог и спросил с издевкой:
– Какой же это великий князь, кроме нас?
– Другой, из Литвы. И будто он не признает тебя государем, а хочет на престол московский возвести Юрия Васильевича…
Афанасий увидел на лице царя подобие улыбки, более похожей на оскал. Иван продолжал издеваться:
– Мой брат Юрий Васильевич глух и безгласен. Как он может стать великим князем?
– Афанасий про другого, кой старше тебя, государь. Сын великой княгини Соломонии…
Иван соскочил с кровати, лицо его перекосилось, глаза готовы вывалиться из орбит. Он схватил обеими руками Афанасия за воротник рубахи с такой силой, словно собирался удушить.
– Врешь, подлый! Этого не было в грамоте!
Афанасий прохрипел:
– Слова Данилы, Богом клянусь!
Вошел Спиридон. Ему показалось, что царь отбивается, он выхватил нож, и мгновение отделяло боярича от смерти. Иван это понял, сильно толкнул Афанасия, который упал на колени, и поднял руку. Спокойно, будто ничего не случилось, сказал Спиридону:
– Не тронь. – Пошел, сел на постель. Некоторое время почесывал редкую бороду. Афанасий стоял на коленях, закрыв лицо руками.
– Запомни, Афонька, – Иван говорил раздельно и внушительно. – Никакого разговора у нас не было, и ты ничего не слыхал от Данилки. Забудь все, иначе укорочу тебя на голову! А теперь выдь на минутку. – Когда дверь за ним закрылась, обратился к Спиридону: – Ну?
– У боярича Данилы был только боярич Афанасий. Уложил его спать. Данила много говорил про крымцев, про твоего братца, князя Юрия Васильевича, и другое, а что именно, мой дурак не запомнил. Я дал ему по морде.
Иван закинул ноги на кровать и, укрываясь одеялом, как бы про себя сказал:
– Опередил боярич… Ладно. Кто следил?
– Васек, малайка боярина Прокофия.
– Дурак ты, Спирька. Наушников не бьют. Их либо вешают, либо награждают. Дай малайке семик, он тебе еще пригодится. Что еще?
– Малайка говорил, что поймал его Афанасий под дверью и отдубасил…
Неожиданно для Спиридона Иван от души рассмеялся:
– Еще раз ты дурак, Спирька! А я ломаю голову, почему брат на брата пошел? Почему родичи перегрызлись? Ловок Афоня! Зови его сюда.
Вошел Афанасий и повалился около кровати:
– Помилуй, государь! Не ведаю, чем прогневал тебя!
Иван довольно весело посмотрел на боярича:
– Вставай, Афоня, хвалю, что не таился от меня. Но запомни: сказанное мне не повторяй никому, даже на исповеди. Грех на свою душу беру. Понял?
– Понял, государь.
– И еще. Ты не должен сейчас видеть Данилу. Собирайся по-скорому и скачи в Москву. В Разбойном приказе найдешь Юршу, поедешь с ним в Дикое Поле. Отвечает за дело Юрша, ты под его началом.
Афанасий сделал протестующее движение, но вслух побоялся напомнить, что ему не ровня какой-то безродный Монастырский. Однако Иван понял немой протест:
– Я сказал: под его начало. Но будешь при нем моим оком. Понял? Иди. Спирька, крикни Мокрушу и одеваться, быстро!
16
В это утро произошло небывалое: царь Иван, не дождавшись заутрени, получил благословение Сильвестра и выехал в Москву. Прокофий хотел сопровождать его, но Иван приказал ему остаться в Тонинском, а Даниила взял с собой.
Прохладный утренний воздух разогнал последние остатки хмеля, и Даниил начал соображать, что через час-другой они будут в Кремле, там можно испить холодного кваса. В предвкушении того удовольствия даже улыбнулся и тут же перехватил мрачный взгляд царя. Иван спросил:
– Весело? Какой сон видел?
– Не помню, государь. Никакого.
– Ладно.
От Тонинского отъехали версты три, когда из-за кустов вышел человек. Стражник тут же наехал на него, но, узнав царского палача Мокрушу, осадил коня. Мокруша был одет, как преуспевающий купец, в длинный серый кафтан, в сапоги с короткими голенищами. Сняв мурмолку с отворотами из дорогого меха, он поклонился и негромко сказал, не глядя на царя:
– Сделано все, как ты указал, государь.
– Далеко?
– Не. Может, полверсты.
Иван подозвал Нарышкина:
– Веди поезд. В Алексеевском подождешь меня. Вот этих пятерых оставь, и ты, Данила, оставайся. Езжайте с Богом.
Иван дождался, пока миновал поезд. Его замыкала колымага Сильвестра, старик дремал на заднем сиденье. Царь развеселился, наблюдая, как заупрямился конь Мокруши. Все еще продолжая посмеиваться, поехал за ним по еле заметной лесной тропинке в сопровождении Даниила и Спиридона. Страже было приказано остаться на дороге.
Вскоре выехали на небольшую поляну, посреди которой стояла покляпая сосна. Их встретили два здоровенных мужика – помощники Мокруши, одетые в зловещие красные рубахи с красными же кушаками, поверх них кожаные фартуки – всегдашняя одежда палачей. Недалеко от сосны полыхал костер. На поваленном бревне разложены инструменты катов. Даниил, почувствовав недоброе, взглянул на царя. Тот насмешливо приказал:





