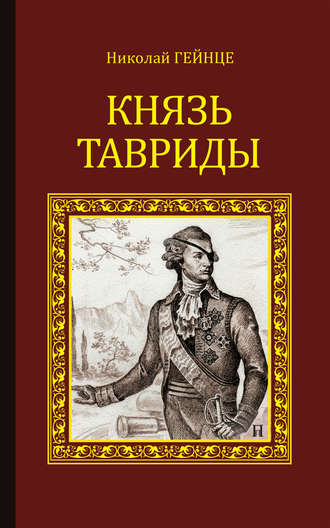
Николай Гейнце
Князь Тавриды
XII. Предсмертная записка
Оставшись наедине с собой, княгиня опустилась в кресло, закрыла лицо руками и неудержимо зарыдала.
Напряженные с того момента, как она очутилась в карете и вспомнила все, нервы не выдержали, и она должна была найти исход в слезах, крупными каплями катившихся из глаз несчастной женщины.
Ее муж – убийца ни в чем не повинного человека! Она – участница этого преступления, главная причина смерти товарища друга ее детских игр, предмета ее первой и, кажется, последней любви – Потемкина.
Она вся дрожала при этом воспоминании. Вдруг ей пришла на память графиня Клодина. Лицо княгини исказилось от внутреннего волнения. О, как она ненавидела теперь эту женщину!
– Это чудовище! – вслух произнесла она с омерзением.
Она бросилась на колени перед висевшими в углу образами, ломала руки, рыдала и молилась.
В опустевшем домике на Васильевском острове происходила между тем другая, полная ужаса сцена предсмертных мук молодого офицера.
Он видел, как князь унес жену, и понял, что последний принял его за любовника, разбившего его семейное счастье.
Евгений Иванович хотя и присел на полу, но чувствовал себя очень слабым.
Он сознавал опасность своего положения и не обольщался надеждою на возможность жить.
В его уме сложилась какая-то странная уверенность, что ов ранен смертельно.
Вследствие этого он откинул всякую мысль о себе и задумался над положением остальных действующих лиц в этой роковой драме, где он разыграл роль случайной жертвы.
Только случайной – это он хорошо понимал.
Сидевшие в нем пули предназначались для Потемкина. Последний, конечно, не знал об этом, посылая его на это роковое свидание.
Эта дама и ее муж несомненно принадлежат к высшему петербургскому свету, и ни он, ни она неповинны в его смерти. Она, понятно, менее всех, придя на свидание любви, не рассчитывала сделаться свидетельницей убийства. Он, застав свою жену с любовником, каковым должен был быть сочтен каждый мужчина, находившийся наедине с его женой, имел нравственное право; кровью похитителя его чести смыть позор со своего имени.
Значит, виновных в его смерти нет.
Так решил умирающий.
За что же они пострадают за него, если его труп найдут здесь и начнется следствие?
За что он заставит их испытать все неприятности полицейских розысков?
Нет, никогда! Ведь этим он не вернет себя к жизни.
С усилием он расстегнул мундир и вынул из кармана записную книжку с карандашом.
Вырвав листок, он написал слабеющей рукой следующие строки:
«В смерти моей прошу никого не винить… Я застрелился сам. – Костогоров».
Спрятав записную книжку, он сунул в карман и написанную им записку.
Еще минуту, и он бы опоздал. В глазах его потемнело, и он лишился чувств.
Пришедший вскоре Акимыч застал бездыханный труп.
Он бросился в полицию, которая вскоре прибыла на место и увезла покойника в часть, впредь до выяснения личности застрелившегося офицера.
Найденная в кармане записка, а в саду револьвер привели полицию к несомненному убеждению, что офицер застрелился.
Оставался открытым вопрос, как, зачем попал он в необитаемый дом графа Переметьева.
Спрошенный Акимыч отозвался положительным незнанием.
– Проветривал я, ваше благородие, комнаты, – отвечал он на вопрос квартального, – может, и забыл запереть входную дверь, а как его милость забрались туда и засели – мне неведомо.
На этом показании старик и уперся.
Весть о самоубийстве офицера на Васильевском острове, доложенная в тот же день государыне полицмейстером, облетела быстро весь город и достигла графини Переметьевой и князя и княгини Святозаровых – этих трех лиц, которые знали более по этому делу, нежели петербургская полиция.
Граф Петр Антонович Переметьев съездил к полицеймейстеру, и этот визит сделал то, что неправдоподобному показанию Акимыча о том, что ему неизвестно, каким образом поручик Костогоров очутился в охраняемом им доме, дали полную веру.
На князя известие о найденной записке самоубийцы произвело самое тяжелое впечатление.
– Сильно же он любил ее, если ходил на свиданья, постоянно ожидая смерти, и, чтобы не набросить тень на любимую женщину, носил в кармане свой смертный приговор.
С княгиней произошло нечто необычайное.
Она вдруг безумно, страстно полюбила этого погибшего из-за нее человека.
Утро другого дня застало ее не сомкнувшою глаз всю ночь.
Она провела ее в слезах и молитвах за накануне ей неизвестного, а теперь дорогого покойника.
Ее жизнь была разбита – она это чувствовала.
Для нее не существовало теперь ни счастья, ни покоя.
Сердце ее навсегда закрылось для ее мужа.
Его ревность, его постоянное мрачное настроение навсегда оттолкнули ее от него.
Кровь невинного человека, которую он пролил, легла между ним и ею глубокою пропастью.
Они не могли более жить вместе.
Княгиня решила уехать и жить вдали от людей, похоронить свою молодость.
Только мысль о ребенке немного останавливала ее – она знала, что его не отдадут ей.
Но страх и отвращение ее к мужу преодолели в ней материнское чувство.
Ее ребенок и без того так мало принадлежал ей.
Более того ее гнала от мужа одна мысль, что он может подумать, что она хочет оправдаться перед ним. Она, напротив, не хотела, чтобы он хотя на минуту усомнился в ее виновности.
В этом она находила удовлетворение своей гордости, возмездие за свое глубоко оскорбленное чистое сердце.
Не хотела ли она своим молчанием пробудить в душе мужа угрызения совести?
Может быть!
Она боялась одного, что муж не пустит ее, что он захочет продолжать эту невыносимую для нее совместную жизнь.
Она встала с постели, отперла дверь и дернула за сонетку.
Через несколько минут появилась ее горничная Аннушка, молодая, миловидная брюнетка, с вздернутым носиком и бойкими глазами.
– Анюта, прикажи принести сюда из гардеробной сундуки и чемоданы и уложить все мои вещи.
Аннушка, хотя и знала от прислуги о размолвке между княгиней и князем, но все же сделала удивленный вид и остановилась, как бы не поняв приказания.
– Что же ты стоишь, разве ты не поняла меня?
– Поняла, ваше сиятельство, но разве вы… – девушка остановилась.
– Что «разве я?»
– Уезжаете?
– Да, я еду…
– Далеко?
– Ты это увидишь, так как я возьму тебя с собою.
– Я готова ехать с вашим сиятельством хоть на край света.
– В таком случае торопись, так как мы должны уехать сегодня же.
Князю Андрею Павловичу не замедлили доложить, что княгиня готовится к отъезду.
Не прошло и часу после отданного Зинаидой Сергеевной приказания, как князь вошел в ее комнату.
– Правда ли, что вы хотите уехать?
– Да, даже сегодня…
– Сегодня!
– Это мое право…
– Может быть… Но вы не сделаете этого. Зина, умоляю тебя, обдумай хорошенько, пока есть время. Выслушай меня. Я люблю тебя, так люблю, что хочу забыть о случившемся.
Она покачала головой.
– Князь, есть вещи, которые не забываются: кровь, которую вы пролили, покойник, который нас разлучает.
Андрей Павлович посмотрел на жену мрачным взглядом.
– Мне страшно слышать от вас такие речи. Если я вас не упрекаю, если я не требую от вас отчета в поругании моего имени, то вы должны были молчать так же, как и я. Тот не преступник, кто защищает свою честь. Я убил негодяя!..
– Князь, не надругивайтесь над своей жертвой!
– Вы решаетесь заступаться за него при мне!
– Перед вами и перед целым светом.
– Но ведь это бесстыдство! – воскликнул он.
– Нет, князь, это только справедливо.
– Но ведь это был ваш любовник!
Княгиня промолчала, но потом вдруг спросила:
– Если вы думали, что я опозорила ваше имя, зачем вы не убили и меня?
– Признаюсь, у меня была эта мысль, но я вспомнил о нашем ребенке и моя рука не поднялась на тебя… Твой сын защитил тебя… Он еще более, чем моя любовь, заставляет меня простить тебя и позабыть о случившемся… Ему одному ты должна быть благодарна за мое снисхождение… Я умоляю тебя остаться…
– Я твердо решила уехать, князь… Я хорошо обдумала! Мы не можем больше жить вместе.
– Да, конечно, я возбуждаю в вас отвращение, – сказал он глухим голосом. – Это понятно. Вы меня никогда не любили, а теперь вы меня ненавидите за то, что я убил вашего любовника.
Княгиня задрожала, глаза ее блеснули, но она не ответила ничего.
Она внутренне поклялась не защищаться ни одним словом.
– Вы мне не отвечаете?
– Это правда, я вас не люблю, – сказала она наконец. – Я не скажу, что вы в меня вселяли ненависть, но мне жутко около вас… Я вас боюсь.
– Если вы уедете, то никогда не увидите вашего сына.
– Я это знаю.
– И это вас не удерживает?
– Нет…
– Могу я спросить вас хотя, куда вы едете?
– В мое имение, в Смоленскую губернию.
– Если вы так настойчиво решили, я вас не задерживаю.
Князь вышел.
В этот же день вечером княгиня выехала из Петербурга.
XIII. Вещий сон
Как громом из ясного, безоблачного неба был поражен Григорий Александрович Потемкин при известии о смерти своего друга и посланника Костогорова.
Он хорошо понял, что за полицейским протоколом о самоубийстве Евгения Ивановича скрывается целая потрясающая жизненная драма, разыгравшаяся в необитаемом домике на 10-й линии Васильевского острова.
В своем пылком воображении Потемкин легко и подробно нарисовал себе почти близкую к истине картину появления оскорбленного мужа в момент разговора Костогорова с княгиней Святозаровой.
Но каким образом князь узнал о месте и времени этого свиданья?
Интрига графини Переметьевой стала ясна Григорию Александровичу. Устройство этого свидания было местью со стороны отвергнутой невесты князя Святозарова. Григорий Александрович знал подробности сватовства князя в Москве – она и уведомила князя, она и направила орудие смерти на голову несчастного Костогорова, получившего пулю в сердце, предназначенную для него, Потемкина.
Григорий Александрович вздрогнул и невольно перекрестился.
Он был спасен положительно чудом.
Графиня Клавдия Афанасьевна своим змеиным языком сумела раздуть в неудержимое пламя тлевшую в сердце искру любви к Зинаиде Сергеевне, и он не только решил идти на свидание с ней, но даже умолял графиню ускорить его; он заранее рисовал себе одну соблазнительнее другой картины из этого будущего свиданья.
Несколько дней перед тем провел он почти в лихорадочном состоянии; несколько ночей без сна. В ночь под роковую субботу он так же не мог сомкнуть глаз почти до рассвета, но утомленный организм взял свое, и под утро Григорий Александрович забылся тревожным сном.
Вдруг… Он ясно не мог припомнить, было ли это во сне или в полубодрственном состоянии, он увидал себя перенесенным в Москву, в келью архиерея Амвросия. Ему представилась та же обстановка свиданья с богоугодным старцем, какая была перед отъездом его в Петербург, более двух лет тому назад.
– Не ходи, сын мой, оставайся, на погибель себе идешь… – явственно услышал он голос Амвросия.
Три раза старец повторил эту фразу.
Потемкин проснулся, или лучше сказать очнулся от этого кошмара, обливаясь холодным потом.
– На погибель себе и ей идешь… – звучали в его ушах слова, слышанные во сне.
Они дали толчок другому направлению его мыслей. Он начал рассуждать.
Это самое верное лекарство для влюбленных.
К каким последствиям могло привести в лучшем случае эти свидание? Сделаться любовником княгини. Жить постоянно под страхом светского скандала. Каждую минуту на самом деле готовить гибель себе и ей! То чувство, которое он питал к ней в своем сердце, было первою чистою юношескою любовью, далеко не жаждущею обладания. Ему даже показалось, что обладание ею низведет ее с того пьедестала, на котором она стояла в его воображении, поклонение заменится страстью, кумир будет повержен на землю.
Он вспомнил, кроме этого, другой образ, образ, виденный им недавно в Петергофе, лучезарный образ величественной, гениальной женщины, в руках которой находилась судьбы России и милостивая улыбка которой была, быть может, для него преддверием почестей, славы, кипучей деятельности на пользу дорогого отечества, возвышения к ступеням трона великой монархини.
В нем проснулось честолюбивое чувство.
Петергофский образ заслонил собой образ московский.
«На погибель себе и ей идешь!» – снова прозвучали в ушах слова вещего сна.
Он сидел раздетый на кровати в маленькой петербургской квартирке на Московской улице. Он жил в ней вместе со своим приятелем, Евгением Ивановичем Костогоровым, и даже их кровати стояли рядом.
Он познакомился с Костогоровым вскоре после приезда из Москвы, и через месяц, два они стали друзьями и даже из экономии поселились на одной квартире.
«Попрошу Костогорова… – думал Григорий Александрович, смотря на спавшего крепким сном Евгения Ивановича. – Писать неудобно, не ехать совсем и заставить ее понапрасну ждать еще неудобнее; пусть он съездит и деликатно, нежно – он это умеет – объяснит ей все горькие последствия мгновенного счастья…»
Спавший Евгений Иванович Костогоров был в своем роде человек примечательный.
Круглый сирота и уроженец Петербургской губернии, он потерял своих родителей, которых он был единственным сыном, в раннем детстве, воспитывался в Петербурге у своего троюродного дяди, который умер лет за пять до времени нашего рассказа, и Евгений Иванович остался совершенно одиноким.
Всегда ровный характером, мягкий, обходительный, готовый на услугу, он был кумиром солдат и любимцем товарищей. Была, впрочем, одна странная черта в его характере. Несмотря на обходительность и услужливость, он умел держать не только товарищей, но и начальство в почтительном отдалении, внушая им чувство уважения, препятствовавшее близкому сближению и в особенности тем отношениям, которые известны под метким прозвищем амикошонства.
Сам он тоже держал себя в стороне от всех, но эта наклонность к уединению, эти старания избегать шумных компаний, объяснялись добродушно знавшими его людьми созерцательностью его характера, его набожностью, действительно сильно развитою, и нисколько не оскорбляли товарищей, по-прежнему относившихся к нему со смешанным чувством любви и уважения.
С Григорием Александровичем свело Костогорова именно это чувство набожности.
Только что готовившийся поступить в монахи, уйти от мира и его соблазнов, попавший в полк, чуть ли не прямо из монастырской кельи, Потемкин, конечно, представлял собой находку для Евгения Ивановича. Они очень скоро сделались приятелями, а затем и друзьями.
Этому способствовало и еще одно драгоценное свойство в характере Потемкина, он не любил, как он выражался, рыться в чужой душе, он предоставлял человеку высказываться самому, но никогда не расспрашивал.
Люди же с характером, подобным Костогорову, страстно желают высказаться, но высказаться по своей воле, так как малейшее поползновение узнать что-нибудь от них пугает их и они уходят в самих себя, как улитка в свою раковину.
К этому-то Костогорову и решил обратиться с просьбой заменить его на свидании с княгиней Григорий Александрович.
Он припомнил теперь, как охотно и быстро согласился Евгений Иванович исполнить его просьбу, оказавшуюся роковой, несмотря на то, что Потемкин не сказал ему даже имени дамы, с которой ему придется иметь объяснение.
В общих чертах лишь передал он своему другу историю своей любви и возникновение мысли о назначенном свидании.
О причине, заставившей его отказаться ехать самому, Григорий Александрович умолчал.
Один Потемкин знал тайну смерти несчастного Костогорова. Все остальные, знавшие покойного, как на причину его самоубийства, указывали на странности, обнаруживаемые при его жизни, и посмертная записка умершего – эта последняя, как это ни странно, чисто христианская ложь являлась в их глазах неопровержимым документом.
Найденный в саду пистолет, разряженный на оба дула, в другое время мог вызвать размышление, так как являлось крайне странным, что самоубийца пускает в себя разом две пули и бросает в сад орудие самоубийства.
Самая роскошь отделки пистолета могла вызвать соображение о непринадлежности его покойному, человеку бедному, жившему незначительным доходом с маленького имения в Петербургской губернии.
Соображения эти, впрочем, не пришли почему-то в голову тем, кому следовало.
Евгений Иванович Костогоров был признан самоубийцей и, как таковой, при строгости тогдашних духовных властей, был лишен церковного погребения.
Товарищи покойного, в числе которых был и бледный как смерть Потемкин, проводили тело Костогорова за черту Смоленского кладбища и неотпетое опустили в одинокую среди поля могилу.
Григорий Александрович вернулся с похорон разбитым и нравственно, и физически.
Он разделся и в течение целой недели, отозвавшись нездоровым, не выходил из комнаты.
Это был первый припадок хандры, потом преследовавшей его всю жизнь.
Образ покойного Костогорова как живой стоял перед ним, а Потемкин с рыданиями падал ничком на подушку, не смея по целым часам поднять головы.
Видение исчезало, и на смену ему появлялось перед Григорием Александровичем смеющееся, злобное лицо графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой.
Потемкин в бессильной злобе сжимал кулаки.
Злоба была действительно бессильна, так как на другой день после самоубийства Костогорова графиня уехала из Петербурга, как говорят, в Москву, к своей матери, об опасной болезни которой получила будто бы известие.
Отвратительный демонический образ графини сменялся печальным обликом княгини Зинаиды Сергеевны.
У Потемкина останавливалось биение сердца.
Только теперь, когда на любимую женщину обрушилось несчастие, он понял, как действительно сильно он любил ее, как действительно сильно он любит ее и теперь.
С каким неземным наслаждением он припал бы к ее коленям и вместе с ней выплакал их общее горе, созданное их разлукою.
Зачем, зачем он предоставил Костогорову право умереть у ее ног?
Это право было его – он отдал его.
Он стал завидовать лежащему в одинокой могиле.
«Видеться с ней? – мелькнуло в уме. – Нет! Никогда».
Между ним и ею лежал труп его друга.
XIV. Страшный замысел
Вскоре в великосветских гостиных Петербурга распространилась весть об отъезде в свое родовое имение княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой.
Светская сплетня сделала свое дело, и имя княгини и ее странный, несвоевременный отъезд начали сопоставлять с не менее таинственным почти бегством из Петербурга графини Переметьевой и странно совпавшим с этими двумя эпизодами самоубийством офицера в необитаемом доме покойной графини Переметьевой.
Смерть графа Петра Антоновича Переметьева, происшедшая от апоплексического удара, поразившего старика через какую-нибудь неделю после отъезда его молодой жены, подлила масла в огонь, и светские россказни обо всех этих происшествиях приобрели почти легендарную окраску.
Мы не будем рассказывать эти, подчас довольно пошлые вариации светских сплетен, так как все они были далеки от той истины, которую мы, по праву бытописателя, открыли перед нашими читателями; скажем лишь, что эти толки заняли около месяца, срок громадный для скучающих одним и тем же известием и жаждущих новизны светских кумушек.
Известие об отъезде княгини Святозаровой достигло наконец и Григория Александровича Потемкина.
Чутким сердцем понял он, в связи с рассказом о жизни княгини, слышанном им от графини Переметьевой, всю разыгравшуюся семейную драму в доме князя Святозарова.
Из воспоминаний своего самого раннего детства он знал, что такое ревность необузданного мужчины. Его отец, Александр Васильевич, был человек гордый, порою необузданный и не стеснявшийся в своих желаниях, насколько это позволяло ему его положение. Так, при живой еще первой жене, он женился на второй – Дарье Васильевне, урожденной Скуратовой, и всю жизнь мучил ее своими ревнивыми подозрениями.
Григорий Александрович вспомнил, сколько раз обливала эта несчастная женщина его прижатую к ее груди белокурую головку горячими слезами несправедливой обиды.
Выдержала бы она, если бы ревнивец-деспот вскоре не умер.
Потемкин старался узнать, куда именно уехала княгиня Святозарова, и узнав, что ее родовое имение находится по соседству с маленьким именьицем его матери, тотчас отписал ей, прося постараться завести знакомство с княгиней и отписать ему, что бы с ее сиятельством ни приключилось, держа в секрете это его поручение.
Мать Григория Александровича, Дарья Васильевна, жившая безвыездно в своем именьице, скоро ответила на просьбу сына согласием, а затем описала и первое посещение ею княгини, которая приняла ее «милостиво и ласково» и показалась ей «сущим ангелом».
Вскоре пришло и второе письмо, в котором Дарья Васильевна уже прямо хвасталась пред сыном своею близостью к княгине Святозаровой: «Взяла она меня, старуху, к себе в дружество, – писала она и в доказательство приводила то обстоятельство, что княгиня поведала ей, что “она четвертый месяц как беременна”. – Как она, голубушка, радуется, сына-то у ней муж-изверг отнял, Господь же милосердный посылает ей другое детище, как утешение», – кончала это письмо Дарья Васильевна.
На самом деле, когда княгиня узнала, что она готовится вторично быть матерью, невыразимая радость наполнила ее сердце.
У ней отняли первого ребенка, но Господь ее вознаграждает, сжалившись над ней.
На коленях она благодарила Бога за это счастье.
Перед ней открывалась новая жизнь. Наступившая пустота будет наполнена; она будет жить для своего дорогого ребенка, она изольет на него всю теперь поневоле скрытую нежность своего любвеобильного сердца.
Она в первый раз плакала от радости. Ее посетила мысль о муже.
«Если бы он теперь приехал, я бы открыла ему свои объятия, я бы рассказала ему всю правду, я бы полюбила его – отца моего дорогого будущего детища».
На другой же день она написала ему письмо:
«Господь меня не оставил, Он нас разлучил, но Он дает каждому из нас по ребенку; через пять месяцев я сделаюсь снова матерью», – писала она между прочим.
Она хотела прибавить: «Приезжай, я хочу забыть все, что произошло, я тебе докажу свою невиновность, и мы еще будем счастливы», – но проснувшаяся снова в ее сердце гордость помешала ей написать эти строки.
Письмо княгини, в том виде, в каком оно было написано, возбудило в князе Андрее Павловиче снова лишь сомнение и ревность.
Известие о беременности жены поразило его так сильно, что он чуть было не сошел с ума.
Несчастный рассчитывал время с самыми мучительными подробностями, и по расчету выходило, что это ребенок не его.
Это убеждение укрепилось в его уме.
Он оставил письмо жены без ответа, нанеся ей таким образом новое оскорбление.
Она поняла, что между ней и ее мужем все кончено.
Князь между тем в муках своих страшных сомнений не имел покоя ни днем ни ночью.
Всего более возмущало его то обстоятельство, что этот незаконный ребенок в один прекрасный день явится на свет, – к довершению удара это будет сын, – под его именем и обкрадет его любимого сына, возьмет его титул, права и половину наследства.
Этого он не мог допустить ни в коем случае.
Но как?
Для достижения этого необходимо было одно, чтобы этот ребенок исчез.
Это был единственный выход.
Но нельзя же стереть ребенка с метрического свидетельства – значит, он не должен был иметь метрического свидетельства.
Но как это сделать?
Над этой-то думой князь проводил бессонные ночи.
Наконец в голове его созрел план, который показался ему самым удачным.
Ребенка необходимо украсть тотчас после его рождения и подкинуть кому-нибудь как незаконного.
Он позвал в кабинет своего камердинера Степана Сидорова, которого все в доме, начиная с самого князя, называли сокращенно Сидорыч.
Сидорыч был однолеток графа и когда-то товарищ его детских игр. Он боготворил графа и готов был за него идти буквально в огонь и воду.
Второе он даже доказал на деле, спас тонувшего князя, когда последний еще был мальчиком.
Эта услуга, в связи с привычкой, сделало то, что Сидорыч стал необходимым для князя человеком, поверенным его сокровенных тайн, даже советчиком.
Он был человек природного ума и, находясь постоянно при князе, даже вкусил от образованности, хотя очень поверхностно. Впрочем, и образование самого князя не было особенно глубоким.
– Сидорыч, – сказал ему князь, – я знаю, что ты мне предан, ты доказывал мне это не раз, я за это платил тебе своею откровенностью. Чего я не мог тебе сказать, ты, вероятно, догадывался сам. Таким образом, ты знаешь все мои тайны, даже семейные… Сегодня я должен тебе дать очень важное поручение, которое будет новым доказательством моего к тебе доверия… Но раньше я должен быть вполне уверен, что ты готов мне повиноваться.
– Вы знаете, ваше сиятельство, что на меня можно положиться! – просто отвечал Степан.
– Хорошо, так слушай! Княгиня, ты знаешь, беременна…
Камердинер почтительно наклонил голову в знак того, что это обстоятельство ему известно.
– Через каких-нибудь два-три месяца у нее родится ребенок.
– Ваше сиятельство так любите детей, что, конечно, это доставит вам большую радость! – заметил Степан почтительно, полуфамильярно.
Нельзя было определить, звучала ли в его голосе ирония, или же он совершенно искренно произнес эту фразу. Глаза князя Андрея Павловича сверкнули гневом.
– У меня только один ребенок… Тот, который родится, – не мой, я его не признаю и никогда не признаю.
Степан в ужасе отступил на несколько шагов. Князь подошел к нему ближе и сдавленным шепотом заговорил. Слуга почтительно слушал, но видимо было, что речь князя производила на него страшное впечатление.
– Понял? – спросил его князь.
– Понял! Слушаю-с! – таким же сдавленным шепотом произнес Степан и, шатаясь, вышел из кабинета.







