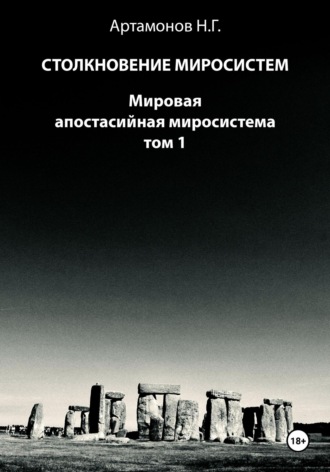
Николай Геннадьевич Артамонов
Столкновение миросистем. Мировая апостасийная миросистема. Том 1
Наконец, чудо Божьего спасения трех отроков иудейских (Анании, Азария и Мисаила; названных в Вавилоне – Седрах, Мисах и Авденаго) – исповедников веры, брошенных в печь. Явленное при этом чудо до такой степени потрясло Навуходоносора, что он прославил Бога иудейского приказал возвестить об этом «всем народам, племенам и языкам» (Дан. 3:98-100), повелел всем народам, чтобы тот «кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины» (Дан. 3:96). Все это было известно и главному жрецу Бероссу и, поэтому, он, зная суть ветхозаветной веры, сознательно, по богоборческому мотиву написал свою сатанинскую библию «Вавилоника», также сознательно была написана и «Египтика» Манифоном. Религии Вавилона и Египта издавна были интегрированы. А различия между этими верами регулировались на уровне жреческой дипломатии, согласной в главном, но дозволявшей ту или иную независимость в частностях, что обеспечивало сохранения лица и формальной языческой суверенности.
Манифон писал о трех периодах по 10 династий в каждом. Начало бытия Манефон ведет от Гефеста, как первочеловека, а его потомками были боги: Гелиос, Сосис, Кронос, Осирис, Тифон и Хор. После Гефестовой династии богов, по Манефону, следует I царская династия, правившая 13 900 лет, потом династия богов и полубогов – 1255 лет. Потом II династия царей (1817 лет), III династия 30 мемфисских царей (1790 лет) и 10 последних 10 царей (350 лет). Наконец, правление «духов мертвых» (5813 лет). Итого, в Египтике Манефона история Египта фиксируется 25 тыс. летним периодом, а предыстории, как житие богов от Гелиоса до Хора неопределимо. Другой поворот: происхождение богов – от первочеловека Гефеста. Таким образом, суммарное мировое время может, по Манефону, достигать фантастических значений: от 50–100 тыс. лет и … много более.
Архитектуру Вавилона характеризуют дворцовые ансамбли, храмовые комплексы с башнями и зиккуратами, олицетворяющие хтонические смыслы египетских пирамид. Сакральная символика храмов в их трехэтажной конструкции, выражающей структуру мироздания: подземный мир – земля – небо. Вавилонские храмы выполняли не только религиозные функции, то, также являлись «важнейшими культурными и хозяйственными центрами. Им принадлежали земли, на которых трудились тысячи крестьян-общинников, множество храмовых рабов. Они вели торговлю с ближними и дальними странами, занимались операциями с недвижимостью; при них находились мастерские, архивы, библиотеки и школы» [57]. Вся сумма этих несвойственных для храма функций (политических, торговых, коммерческих, финансовых, экономических, научных и социокультурных) впоследствии будет развита в неоязыческом перерождении христианства – в католицизме, протестантизме и сотнях сект и ересей, отпочковавшихся от них. Классической формой месопотамских храмов, пишет А. Н. Маркова, была «высокая ступенчатая башня – зиккурат (после 1917 г. в Москве построили зиккурат-мавзолей, как сатанинский храм смерти по вавилонскому образцу – прим.), опоясанная выступающими террасами. Таких уступов-террас могло быть от четырех до семи» [57]. Вход в эти храмы был доступен лишь высшему кругу жрецов (принцип эзотеризма языческой религии). Видеть статую-идола, население Вавилонии могло лишь в праздничные дни и не в храме, а только на улице, когда процессия жрецов выносила идола на всеобщее обозрение. А. Н. Маркова уточняет детали: «святилище бога, его «жилище», находилось в верхней башне зиккурата, нередко увенчанной золотым куполом (еще один смысл пророчества Даниила о «золотой голове»), – там бог гостил по ночам» [57].
Город в халдейско-жреческом мировоззрении – это символ цивилизации, противоборствующей Богу. Город Вавилон – это не только архитектурный объект, это суть всей мировой империи, в которой Вавилон пытается объединить все человечество. Поэтому и в архитектурном отношении находят свое выражение такие черты, как огромный масштаб, блеск земного благоденствия, комфорт и шум праздника жизни, мощь и сила, на которую уповают строители цивилизации и поклонники прогресса. Символом силы и мощи является наружная стена, опоясывающая город. Она действительно мощная и толстая: высота стены 8 м, ширина 4 м, длина окружности – 8,3 км. За внешней стеной – внутренняя, которая отстоит от первой на 12 м, она выше первой – 14 м и шире – 6,5 м. Геродот писал, что «по стенам могли свободно разъехаться две колесницы, запряженные четверкой лошадей» [7]. Город имеет плотную застройку, и он огромен: кроме улиц имелось 24 больших проспекта. Сакральный смысл города подчеркнут семиярусным зиккуратом бога Этеменанки достигающим высоту в 90 м, он является напоминанием «Вавилонской башни». Символом торжества цивилизационного комфорта являются террасы этой «Вавилонской башни» – семиярусные «висячие сады Семирамиды» с тонко продуманной системой многоярусной ирригационной системы. Восторг красоты и комфорта: через каждые 12–15 м., земля с ухоженным садом; повсюду пекло, а тут … тенистые аллеи и в подоблачной высоте – благоухание садов с сочными плодами – полная иллюзия «земного рая».
Священное Писание подчеркивает в феномене Вавилона именно – богоборческую идею города как образа земного рая – знамени противостояния Богу комфортом цивилизации, как бы полнотой своей независимости. Вавилон строил себя как «город крепкий», «город великий», «город торговли», «город богатства», «город блудницу» и «город зла». Вавилон был великолепен и украшен золотом и каменьями. На цель построения такого города работала вся империя. В результате город был богат и велик, комфортен и раскошен, но это лишь одна «золотая голова» (Дан. 2:38) – один город, паразитирующий на многих народах. Голова «золотая», а тело «соломенное», город богат и силен, а вся остальная область – тело империи – больное, слабое и чахлое. Именно этот парадокс и увидела Мидо-Персидская империя и, собрав военную силу, – легко справилось с Вавилонской империей. Нужно было, ничего не разрушая, ни империи, ни столичного города, просто сменить караул в институте власти, что и было сделано. В Откровении Иоанна Богослова о падении Вавилона возвещает Ангел: «пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. Иоанн. Гл.14:8). Вся суть Вавилонской империя, передается одним словом – «город», как символе цивилизационного богоборчества, а дела вавилонские названы «яростным вином блуда». В Толковой Библии А.П. Лопухин дает толкование: «Вавилон есть прекрасный образец для всякого боговраждебного города … Причиною падения будущего Вавилона выставляется идолопоклонство, наименованное блудом … Понятие же самого блудодеяния и любодейства в Священном Писании очень часто употребляется в применении к городам (Ис 1:21; Наум 3:4) и обыкновенно указывает на все то развращающее влияние, которое оказывают те или другие города на народы своею торговлею, своими нравами и своим идолопоклонством» [45] [72]. Характеристика вавилонского богоборчества далее усиливается: «пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» (Откр. Иоанн. Гл.18:2). А.П. Лопухин изъясняет духовные причина казни городов в конце истории и это казнь на Вавилоне не заканчивается; она лишь начинается с Нового Вавилона, но в каждом народе найдутся свои микро-вавилоны, ждущие той же участи от Суда Божия: «Город сделается совершенною пустынею … Причина падения Вавилона – это развращающее влияние его политики и нравов на все земные народы … Насколько … Вавилон был центром государственного могущества, мирового влияния на жизнь и нравы и предметом подражания … насколько прежде он был центром мировой торговли, настолько же ничтожен он теперь» [45].
Кто и по каким причинам будет оплакивать Вавилон во время Суда Божия? А.П. Лопухин истолковывает так: «Прежде всего восплачут цари, правители отдельных провинций и государств, составляющих единое антихристианское царство; для них особенно чувствительно будет опустошение столичного города … Далее … оплакивают разрушение купцы, которое … непосредственно отзывается на их интересах, так как с мировым городом Вавилоном была тесно связана мировая торговля» [73] [39]. Указывается три главных причины «суда над городом и его жителями. Первая вина … купцы обратились в вельмож и придали безнравственное направление своей торговле. Далее, вина в его волшебстве, т. е. его развращающей политике. Наконец, последняя и самая важная вина Вавилона … в нем была найдена кровь пророков, святых и всех убитых на земле. Это значит, что Вавилон, как город при конце мира, столица … боговраждебности, был виновником пролития крови всех убитых на земле; так как зло и грехи будущего антихристианского мира были плодом и последствием всей долговременной истории зла, то, по справедливости, на антихристианский мир (Вавилон) падает и ответственность за все мировое зло» [45] [74].
Последнее утверждение в толковании прямо указывает на действие закона совпадения духовного «начала и конца» – последний Новый Вавилон, расплачивается за всю сумму зла, порожденного первым – Древним Вавилоном, за всю меру зла, развившегося на пути от первого – исторического Вавилона, до последнего – Нового Вавилона, как совокупности стран и народов, учреждающих Новый (сатанинский) Мировой Порядок.
Религия Вавилона
А. А. Опарин пишет, что Вавилон временами «утрачивал политическое господство, но господство религиозное он сохранял всегда. Этот город являлся столицей мирового жречества, куда съезжались жрецы Египта, Сирии, Элама, Ассирии, Тира, Персии, Сидона, Аравии, Мидии, Эфиопии, Ливии, Малой Азии и т. д., где они обучались жреческой науке, докладывали главному жрецу тайны своих стран, получали от него приказы. В центре Вавилона высился огромный храмовый комплекс Эсагила – местопребывание главного жреца и тайный центр всей политики Древнего мира» [48]. Геродот свидетельствует: «центральным сооружением Эсагилы была огромная храмовая башня Этеменанка на месте знаменитой вавилонской башни, говоря о вечности Вавилона» [7].
Реликтовый слой праотеческих – библейских верований. Дж. Фрезер пишет о двух сохранившихся Жреческих кодексах Древнего Вавилона было, в которых содержатся библейские повествования о происхождении мира и человека. Первый кодекс (IX в. до н. э.), излагает эти истории более натуралистично, а второй (VI в. до н. э.) в более абстрактно-мистической форме. В 1-й главе вавилонского Жреческого кодекса содержатся библейские рассказы о сотворении мира. Во 2-й главе – библейские рассказы о творении Богом животных и человека, о грехопадении, о всемирном потопе. «Более ранний автор, представляет себе бога в конкретной форме, как существо, которое говорит и действует подобно человеку, творящего человека из персти земной, разводит сад, призывает к себе Адама и Еву, спрятавшихся за деревьями, делает им одежду из кожи вместо фиговых листьев», – отмечает Дж. Фрезер [75]. Есть многочисленные свидетельства в вавилонской литературе о творении человека «из глины» [75]. В книге вавилонского жреца Беросса описан «Великий потоп», точно передающий весь сюжет библейскую истории, описанной в книге «Бытие» (только имена Бога и Ноя заменены – на бога Кронуса и царя Вавилонии Ксисутруса). У Беросса излагается сюжетная фабула истории Ноя, включая Божье повеление о строительстве корабля-ковчега, о самом потопе и о спасение «Ноя». Беросс повествует, что потоп уничтожит людей, а потому Бог повелел «Ною» записать историю мира (как бы кн. «Бытие»). Беросс даже сообщает, что ковчег-спасения пристанет к горам в Армении, что в III в. до. н. э. людям не было известно, но в XIX в. н. э. именно в Армении – на горе Арарат ковчег Ноя и был обнаружен [75]. Таким образом, эволюционистские трактовки происхождения человека, якобы дикого, якобы стихийно выдумавшего себе богов, взирая на мощь природных стихий, – явно несостоятельны.
Следует и другое: жрецам Древнего Вавилона был хорошо знаком Бог Библии, библейские истории происхождения мира и человека, грехопадения человека и его изгнания из рая, знакомы были имена прародителей рода человеческого Адама и Евы. Им была известна история допотопного человечества и кары Божией – Всемирного потопа. Все эти сведения были включены в Жреческий кодекс, имевший статус языческого «Священного Писания». А наряду с этим, и, в полном противоречии этому в Кодексе есть инфернальная басня творения человека: «бог Бел отрезал собственную голову, а другие боги собрали кровь, смешали ее с землею и из этого кровавого теста вылепили людей. Вот почему, говорят вавилоняне, люди так умны: их смертная глина смешана с божественной кровью» [75].
Расщеплённость религиозного мировоззрения. Л.А. Тихомиров пишет о моральной и духовной расщеплённости язычества: «язычники чаще обращались именно к злым духам, а не добрым: удовлетворение какой-нибудь страсти, мщения или побуждения, чуждые понимания высших благ духа и сводящиеся к животной сытости, благосостоянию материальному вызывают психологические симпатии к сатане как врагу Божию» [46] [9]. Главные мотиваторы человеческой обыденности – это прагматизм жизни, корысть, эгоцентризм, властолюбие, честолюбие и сладострастие. В языческом мире эти страстные начала ничем не ограничены и принимаются как нормы жизни. Соответственно, злые боги у язычников более востребованы и жизненно необходимы, а добрые боги уходят на задний план сознания. Язычество оказывается религиозно санкционированным аморализмом.
А. С. Хомяков различает в представлениях древних о происхождении человечества осознание божественного акта «творения», сообщающего духовную природу и акта «рождения» (человека от человека), выражающего лишь телесный источник. С духовной природой связываются императив «свободы и воли», а с телесной – жесткий детерминизм «необходимости и неволи». В языке религии это законы Неба и законы Земли. В Древнем Вавилоне язычество признает творение человека богами, которые ставят его в земную жизнь. Человек – посреди Неба и Земли и, поскольку они равноценно обожествлены, то человек стоит между богов, служит тем и другим, не имея никаких перспектив своей судьбы в вечности. Свобода воли – небесный дар, но «свобода» кажется ему понятием отрицательным, а воля – положительным потому, что, если «нет свободы, то нет и воли, – возглашает принцип рождения, а есть только необходимость. Но если есть свобода с опасностью ошибки, то есть и наказание, состоящее в вечной неволе – возглашает принцип творения» [76] [77].
Исходя из этого парадокса языческого мировоззрения, Л. А. Тихомиров, исследует его проявление в древневавилонских семейных и родовых союзах, в институте семьи, в обществе и морали, в культуре и цивилизации. Религия вавилонян раздваивает человека, раздваивает семейные ценности (оргические культы, храмовая проституция, с участием мужей и жен, родителей и детей), деформирует связь поколений, раздваивает представления о счастье и смысле жизни. Миф о Беле говорит о происхождении человечества через акт самоубийства бога – самоубийственна и жизнь человека, и его культура, и создаваемая им цивилизация. Языческая вера гилозоистична: вся природа, от камня и дерева, до звезд и планет имеет душу и жизнь. Человек, шествуя по земле – ходит по живым существам, ходит по богам, живущим в природе и стихиях. Строит цивилизацию городов, вавилоняне строят ее как продолжение «Вавилонской башни», т. е. как вызов Богу-Творцу, мстя Ему за Потоп. В то же время, в городах множество храмов, где совершаются темные теургии инфернальным богам-демонам.
Л. А. Тихомиров описывает цивилизационный прогресс, историческое развитие «все более утонченно-сложных формы обществ, умножение способов в добывании сил природы, процесс социального развития, где сменяется союзы племенные, государственные, и, наконец, всемирные» [9]. В Вавилоне развивается философия бытия, неся в себе противоречивую раздвоенность, при которой отрицается истинное духовной бытие, «отрицается и исполнение человеком предназначенной ему Богом мировой миссии». Л. А. Тихомиров так реконструирует вавилонское мировоззрение: «Если бы мы были эманацией Божества, то не имели бы свободы, а тянулись бы почти механически обратно к своему Источнику не как свободные личности, а как составная часть Божества. Теперь же мы можем идти к Богу и удаляться от Него, и даже идти против Него, как это сделал некогда величайший из созданных духов» [16] [9].
Сакрализация царя, института власти и имперского статуса. Мировоззрение Древнего Вавилона в равной степени религиозно и материалистично. Это ярко выражено в цивилизации «духа городов» [58]. Вавилон – это «город крепкий» (Откр. Иоанн. Гл.18:10), «город великий» (Откр. Иоанн. Гл.14:8), «город торговли» [45] [39], «город богатства» – «золотая голова» (Дан. 2:38), что выражает материалистический полюс вавилонской веры как религии города, религии маммоны, религии материального «величия» и «блеска» [45]. Если Шумерах господствовали общинные культы и общинное равенство вызвало образ жизни, названный «религиозным коммунизмом», то у наследников Шумер – Вавилона в религии были сакрализованы: власть, царь и царская власть, цивилизация и империя. Даже политические и экономические деяния империи – законы, государство, торговля и коммерция стали сакральными. Шумерская религия ввела в мир богов родословную модель, и шумерские жрецы стали устанавливать династические связи богов. Династийный принцип стал сакральным и для богов, и для царский династий в государстве. В Двуречье сами обожествленные носители власти становились предметом религиозного поклонения. Шумерские патеси (правители городов-государств) были одновременно и жрецами богов. Не только цари, но и правители городов, и жрецы имели сакральный статусы (иерархия сакральных статусов). Царь-жрец имел двойную сакральность. В Двуречье, в целом, и в Вавилоне цари – ставленники богов. На барельефах цари изображались лицом к лицу с богами. Вавилонский монарх имел официальный титул «царя царей». Использовались титулы «царь четырех сторон света». Вавилонская империя, объединившая в своей власти весь Восток, обрела этот всемирный статус, равнозначный «царю Вселенной». Политические деяния Вавилонской империи воспринимались во всем Древнем Востоке как священное право, нарушение которого – «святотатство».
Вавилонский политеизм – это небесная империя, являющаяся духовным законом для языческой империи в ее внутренней жизни и мировой политике.
Теологическая многофункциональность пантеона и религиозный парадоксализм. Один из авторов «Истории религии» Ф. Иеремиас пишет: «храмы суть изображения небесного жилища богов, а потому украшены изображениями светил. Рядом с божеством мужского пола – женское божество, супруга» [78] [11]. В небесной иерархии важное место занимал бог подземного мира Нергаль и Вавилон слыл «городом мира», как Нергаль правил в «городе мертвых». Нергаль и его супруга Аллату признавались творцами жизни и плодородия: бог мертвых одновременно и царь жизни. Наряду с Нергалем, подземным богом считался и Эа, парадоксально бывший богом-творцом, добрым морским богом, богом таинственной мудрости и богом-хранителем. Другой парадокс: Истар (Астарта, Нанна) была царицей неба и богиней войны и сладострастной любви. Истар почиталась как мать богов и человечества; она же незамужняя богиня, ищущая по своему желанию очередного супруга. Вавилоняне почитали сладострастную Истар, но была и друга Истар – жестокая и смертоносная [79] [11]. Во главе пантеона стояла триада: господа неба Ану, владыка земли Бел и Истар. Но после объединения Вавилонии и становлении империи в III тыс. до н. э., произошел переворот небесной империи. Царем богов стал «Мардук, правящий небом и землей, богами и людьми». При главенстве Мардука, «Самас, – судия небесного и земного мира – великий судия богов, судия неба и земли» [11].
Синтез теологии, астрологии, нумерологии и каббалы
Ф. Иеремиас пишет: «в вавилонской теологии, характерно соединение космо- и астрологических представлений с миром богов. Син, Самас, Истар – природные божества, а Солнце, Луна и Венера их воплощение. Мардук установил на небе местопребывание богов и поставил звезды. Звезды производятся заклинания. Боги сопоставлены планетам и дням недели: Самас солнце, Син месяц, Нергаль в виде Марса, Небо – Меркурия, Мардук – Юпитера, Истар – Венеры и Ниниб – Сатурна. 12 богам сопоставлен – числами» [80] [11].
Антропоморфный теогенез, принцип полового диморфизма богов. Небесные козни, как религиозная норма. «Ану, Бел и Эа – были сотворены высшей божественной парой. Тиамат хочет сделать своего супруга Кингу высшим из всех богов, возводя его в сан Ану. Символ власти – скрижали судьбы – оказываются все же у Мардука. В рассказе о потопе Мардук и Бел решают погубить людей. Виновником потопа является Бел … Бел разгневался, когда один человек от потопа спасся. Мардук и цари получают свою власть от Бела, ему подчинены демонские силы; он царь духов. В мифе о семи злых духах Бел называется отцом Сина (бог солнца), Самаса и Истар» [81] [11].
Пантеистический универсализм с региональными отличиями. Ф. Ленорман выделил общие черты вавилонской, ассирийской и египетской религии «Концепция божественного существа единого и всеобщего, смешиваемого с материальным миром, встречается повсюду. Это – бог-природа, каждый год опустошающая свое дело, чтобы его возобновить в следующий сезон. Каждому моменту этих операций соответствует особое божественное имя и отдельная ипостась. Отсюда развитие первобытной мифологии, которая имеет совершенно местный характер» [82] [83]. Далее Ф. Ленорман писал: «Религия Вавилона в существенных принципах была той же природы, как религия Египта … но более высокого порядка. Там идея божественного единства изуродована пантеизмом, смешивается создание с Создателем и превращает Божественное Существо в бога-вселенную, в явления природы. Под этим высшим и единым божеством поглощаются все вещи и, в порядке эманации – целая плеяда второстепенных богов. В этих второстепенных божественных существах и проявляются различия главных языческих религий. Воображение египтян… было поражено перипетиями годового движения солнца… Халдео-вавилоняне, предались астрономии, системе звезд и особенно планет читали откровение божественного существа. Подобно сиро-финикийским народам они рассматривали звезды как проявления божественного существа – ипостасей Абсолютного Существа». [83].
Этно-региональные вариации верований. «Местный характер божеств исключал идею единства и братства человечества, – подчеркивает Л. А. Тихомиров, – отношения между языческими племенами получали характер вражды более зверской, чем у животных. Чужой был врагом, истребление которого – приятно местным божествам» [9].
Межстрановый культурно-религиозный синтез наук оккультизма в Вавилоне. По Л. А. Тихомирову, «Халдея достигла степени передовой страны языческой культуры, сохранила чары магии Шумера и Аккада, прибавив к ней астрономическую и астрологическую науку ассирийского звездочетства. Три основные отрасли «халдейской мудрости» соединили фонд научных знаний с философией ассиро-вавилонян, с учением Зороастра и индуизмом. Язычество явилось перед пленниками Иерусалима как огромная умственная сила, вооруженная всем, что люди могли узнать» [84] [9]. Гипноз вавилонской мудрости и знаний, слитых с магией, так околдовал иудеев, что они, жаждали освобождения от плена, но на Родину (в Библии читаем о «плаче на реках вавилонских»), но с Зоровавелем вернулось в Отечество чуть больше 42 тыс. евреев. Большинство же осталось там навсегда: «Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек», – читаем в первой книге Ездры (1 Езд. 2:64). На этом заостряет внимание и швед Э. Нюстрем в «Библейском энциклопедическом словаре» [85]. Что же остановило? Почему зов родной земли был, а отклик столь мал (42 тыс. – это население поселка городского типа)? Кроме прельщения культурой и тайными знаниями, магией и колдовством, есть и другие факторы: 1) Вавилон богатый город, а плен был не тягостным, много свобод, не мыслимых в Иерусалиме; 2) многие сделали коммерческую карьеру и нажили капиталы (визирь Навуходоносора – Аман, желая погубить евреев, докладывал царю: «не известно: кто у кого в плену» – все финансы страны оказались в руках иудеев); 3) в плену не было тягот аскетического самоограничения, которых требовала Моисеева вера – делай, что хочешь; 4) многие образованные евреи стали халдейскими учениками, о чем свидетельствует Библия (позднее они стали наставниками «книжников и фарисеев», из Вавилона поддерживая с ними многовековую связь); 5) вавилонская религия раскрепощала все низменные инстинкты (неограниченное религиозными санкциями ростовщичество, коммерческие обманы и спекуляция, сакральный культ торговли и богатства, разнузданный секс под религиозным соусом, политическое интриганство).
Космогония хаоса, самозарождение богов и природы, антропоморфизм и половой принцип в теогонии. Ф. Ленорман пишет: «бог-природа – двойное существо. Он обладает двумя принципами всякого земного рождения – это принцип активный и пассивный, мужской и женский. Таким образом, в Халдее и Вавилоне, как в Сирии и Финикии, божественные личности не мыслятся отдельно, но парами, и каждая пара составляет полное единство, отблеск первичного единства» [86] [83]. Ядром религиозного мировоззрения в Вавилоне стало халдейское (аккадское) учение, по которому мир возник из пустоты и хаоса, не было Неба, Земли, богов. Первоначалом Бытия считалась Тиамат (пучина, бездна) – мать мира. От нее произошла семейная пара богов – Лахму и Лахаму потом вторая семья богов: Ансар и Кисар, олицетворявшая двойной бинарный принцип: небо/земля и два космических начала мужское/женское. Потом, по халдейской мудрости, явилась языческая троица: Эа, Мардук, Истар. Далее, Тиамат собирает свое воинство (демоническая рать, зарожденная в бездне) и начинается космическая война с богами (другим инфернальным воинством). Причина в споре обожествленных темных сил о путях совершенствования космического мироздания. Мардук убил мать – Тиамат и «разрубив ее труп, из одной половины сделал небо, а из другой землю» [9]. После чего началось порождение богов и расширение их небесной династии. Дальнейшее развитие религии перешло от Аккад (туранцы) к семитическим ассирийцам, которые ввели в пантеон боге Илу с высшим статусом, по имени которого назван Вавилон, как «Баб-Илу» [87] [83]. Ф. Ленорман писал: «Илу назывался «Единый» и «Благой» [83].
Жертвоприношения как ритуальное публичное убийство. В разных культурах и этносах (у ацтеков, финикийцев, карфагенян, ассирийцев, вавилонян и др.) в языческих жертвоприношениях – «отсутствовал этический элемент (и в актах жертвоприношения, и в самих божествах), что превращало жертвоприношение в культовое злодеяние» [9]. Но среди них были особые – человеческие жертвоприношения. У сиро-финикийских народов, например, в жертвах Молоху люди: «сжигались живыми – в недрах раскаленного кумира или клались на его раскаленные руки, которые особым механическим приспособлением подымались и опускали жертву в рот чудовищу» [9]. Жертвенные ритуалы публичного убийства людей совершались торжественно и этот мистический садизм был у многих народов на Ближнем (шумерицы, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы, финикийцы, фригийцы, хананеи, аморреи, моавитяне), Среднем (персы, хетты, индийцы, пакистанские арийцы, непальцы) и Дальнем Востоке (китайцы, монголы), в Африке (карфагеняне, египтяне, танзаниские банту, угандийские пигмеи, либерийцы, нигерийцы) в Греции и во многих европейских странах (галлы, германцы, кельты, улады, свеоны, друиды, викинги, норманны, даны), в Евразии (Волжские Булгары, южные и западные славяне, скифы). Особенно жестокими были кровавые культы в Карфагене, в Мексике и Америке (майи, ацтеки, инки, ирокез, индейцы). У.Х. Прескотт пишет: «Ничего не может быть ужаснее религии ацтеков. У алтаря умерщвляли тысячами пленников … жрец рассекал жертве грудь … вырвал трепещущее сердце, бросал к ногам божества … из трупов готовили кушанье, созывая друзей на пир… Так же в закалали и сыновей местных нотаблей, не исключая и верховного повелителя» [88].
Вавилонские культы человеческого жертвоприношения коснулось и ревнителей Ветхозаветной церкви. В конце ХI – начале X в. до н. э. царь-пророк Давид свидетельствует в Псалтыри: «смешались с язычниками и научились делам их; служили истуканам их, [которые] были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью» (Пс.105:36-38). И в середине X в. до н. э. при царе Соломоне был культ Молоха: «построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам» (3 Царств, 11:7-8). Также и во времена пророка Илии (IX в. до н. э.), за 2 столетия до вавилонского плена при царе Ахаве «по всей стране насаждал культ поклонения Ваалу, Астарте и Молоху, а ревностных сторонников истинной религии преследовали и убивали». дело дошло до того, что еще Илия остался, как ему казалось, – в одиночестве и просил Бога забрать его из земной жизни, но получил от Господа ответ: «Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3 Царств, 19:18). Всего 7 тыс. человек. В VII в. до н. э. пророк Иеремия возвещает Слово Господне: «они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных (5) и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу» (Иер. 19:4-5). А потому, говорит Бог Израилев, город иудейский «предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою» (Иер. 32:36-36). Из Библии видно – иудеи в XI-V вв. нередко и массово впадали в ассиро-вавилонские культы Ваала и Астарты, связанные с человеческими жертвоприношениями, в т. ч. детскими.
Храмовая проституция. А.П. Лопухин отмечает: «у основателя Вавилона Нимврода была жена Семирамус, которая вела крайне разгульный образ жизни, усилившийся особенно после смерти Нимврода» [89] [45]. Моральное разложение и сексуальная распущенность начинается с царского двора. О храмовой форме проституции писал Геродот: «У вавилонян, на Кипре, в Афинах, в Коринфе был широко развит институт иеродул, живших при храме и отдававшихся посетителям за деньги» [7] [89]. О традиции Вавилона сообщает Дж. Фрезер: «В храме Бэла ни один человек не оставался на ночь, кроме одной-единственной женщины, которую бог, по утверждению халдейских жрецов, избрал среди всех женщин Вавилона», [90] [91]. Из Вавилонии «храмовая проституция распространилась во всем языческом мире», – пишет Л.А. Тихомиров [8] [9]. Вавилон издревле воспринимался как символ растления и разврата (библейские символы «блудницы» и «любодеицы»).


