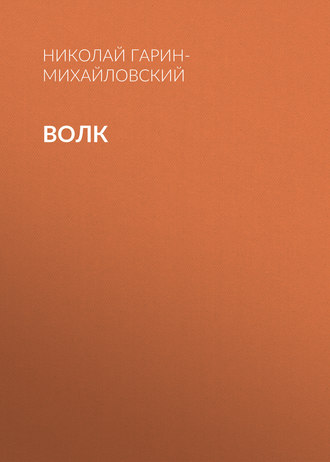
Николай Гарин-Михайловский
Волк
– Нет, – решительно сказал доктор, – при таких условиях мы бессильны. Вы окончательно отказываетесь меня впустить?
– Окончательно, потому что не было и нет у нас больных.
– И к другим больным не пустите?
– Нет у нас никаких больных в деревне.
Доктор уехал, а на другой день возвратился с полицией.
Произошло столкновение, вызвали войска, которые и положили конец «бунту», наказав розгами человек пятнадцать.
Злобу и бешенство крестьяне сорвали на Петре Федоровиче…
Он был объявлен чем-то вроде врага отечества, народа и мира, словом, человеком, стоящим отныне вне законов.
Через несколько дней после этого хутор Петра Федоровича был сожжен, пчельник разрушен; состоялось постановление схода отобрать от него землю, а сам Петр Федорович в одну из ночей был избит до полусмерти, причем сломали ему несколько ребер и только потому не добили его, что обморок приняли за смерть. Утром подняли Петра Федоровича и снесли в избу.
Хотя, благодаря колоссальному запасу здоровья, он и выжил, но совсем не оправился: желтый, страшный, кашляющий, остался таким навсегда.
Раздражился Петр Федорович. Решил потягаться с миром.
– Ох, не тянись, мир – велик человек! Нет силы против мира!
– Он, мир, – все зло, – отвечал Петр Федорович, – вся погибель деревенская. С миром еще тысячу лет пройдет, а все такие же сиволапые оболтусы на дно Блажного друг дружку за волосы тащить будете!
Начал свою борьбу Петр Федорович с того, что заявил по начальству о поджоге, побоях, неправильном захвате его земли.
Относительно земли ему наотрез отказали: и документ был незаконный, и прав крестьяне не имели продавать ему землю.
– Земля ничья! – кричали мужики.
– Ничья! Да ведь выкуп за нее мы платим! – возразил было Петр Федорович.
– Спорить я с тобой, что ли, стану? Говорю тебе – закон, а ты рассуждаешь! – заявил староста.
Относительно поджога и побоев было назначено следствие, но оно ни к чему не привело.
Петр Федорович упал духом, поехал советоваться с миссионером.
– Брось ты все это, – посоветовал ему миссионер, – людей не переучишь, а себя погубишь.
– Неужели так и оставить их перемирать?
– А неужто тебе самому за них умирать? Оставь и уйди от греха.
– Уйду я, а другой ведь не уйдет, так и затолкут его, – толкут друг дружку, как бараны, мнут, так одна каша была, есть и будет, и никто в ней не спасется.
– Да ты-то ведь спасся, – о себе и думай. Держи экзамен на миссионера, а там и в попы. Человек ты умный, начитанный, перед тобой дорога открытая, а ты уткнулся, прости, господи, – в свиной хлев, и нет тебе милее его. Дело, можно сказать, божеское меняешь на самое последнее – человеческое. А все от гордости, да злости, да высокомерия.
Подумал-подумал Петр Федорович и решил держать экзамен.
В своей деревне у отца, в маленькой лачужке, купленной на страховые деньги, засел он за книги и почти не выходил на улицу. А когда появлялась иногда его высокая, уже сгорбленная и мрачная фигура, ребятишки в страхе прятались, потому что сложилась уже между ними какая-то легенда о Петре Федоровиче, как о каком-то замученном, порченом.
Весть о том, что Петр Федорович желает держать экзамен, еще больше раздражила крестьян.
– Все неймется, – говорили они, – все выше людей охота быть. Вы, мол, что? Мужичье серое, а я вот в попы…
Разговоры эти доходили до Петра Федоровича; передавал их ему какой-нибудь бедняк, и Петр Федорович волновался и старался растолковать этому бедняку смысл всего происходившего.
– Ведь это кто говорит так? – втолковывал он бедняку, – говорит писарь, кабатчик, да кто из вашего же брата побогаче, мироеды, – те говорят, кому на руку, чтобы все как есть так и осталось бы: беднеет мужик – меньше сеять станет, дешевле работать будет, больше богатый засеет, совсем петля затянется – еще легче будет вести вас куда угодно: за пуд десятину станете жать, до последнего дойдете, дохнуть будете у пустого пойла, а деться некуда, иначе, как на их работая. Выкупные сами полностью вносить будете, а землю за полцены им же продадите…
– Этак, этак, – слушал и кивал головой бедняк и уходил, чтобы пересказать обо всем тем самым, кого громил Петр Федорович.
А те в свою очередь пересказывали следующим, пока не доходило все это дело до земского.
– Знаю, знаю! Слышу все, слышу, что в каждой избе говорят, – отвечал земский: – слышу, знаю и в свое время, что надо, сделаю.
И аристократия деревни, собравшись где-нибудь под вечер погуторить, говорила друг другу, когда разговор переходил на излюбленную тему о Петре Федоровиче:
– Ну и дрянь же завелась на деревне!
IV
Сдал и экзамен Петр Федорович, и даже место попа или дьякона где-то открылось ему по протекции миссионера.
– Ну, с богом, – говорил ему миссионер, – поезжай теперь к себе, откупись в последний раз от миру… Много, чай, возьмут?
– Да уж сотенный билет сорвут, как пить дать!
– Ну, что делать? И дай… да и выходи с божьей помощью на широкую дорогу: был ты овечьим пастухом, будешь теперь человечьим стадом заведовать.
– Да, – вздохнул Петр Федорович, – большой путь, как оглянешься, пройден, а только чего он стоит мне, так-таки и скажу: начинать сначала и врагу не посоветовал бы. Не ваша помощь, погиб бы и я ведь.
Петр Федорович повалился в ноги миссионеру, а тот, поднимая его, твердил:
– Божья, не моя, божья помощь…
Пришел Петр Федорович к себе в деревню и, не откладывая дела в долгий ящик, просил старосту в первый воскресный день собрать сход, чтоб перетолковать об уходе его, Петра Федоровича, навсегда из миру. – Ладно, соберем, – тряхнул головой староста.
В первое воскресенье сход, действительно, собрался и в ожидании Петра Федоровича томился у избы старосты. От поры до времени перебрасывались словами.
– Не идет что-то, – проговорил один.
– Так он тебе и пришел: это вот ты, лапотный, так с петухом, может, прибежал сюда, а кто в попы смотрит, тот, може, и до вечера не доплетется.
– Смотрит? – подхватывал третий, – смотрю и я вот, как галки летят, да ведь смотри, пожалуй…
– Как говорится, – добродушно заметил тихий крестьянин Василий с улыбкой: – «Так-то так, да вон-то как…»
– Что-то не пойму я, – рассмеялся кривошеий крестьянин Дмитрий, любивший меняться лошадьми. Рассмеялся, потому что знал, что дядя Василий спроста ничего не говорил.
За Дмитрием и все насторожились, и дядя Василий, прокашлявшись, не спеша стал объяснять скрытый смысл своих слов.
– Это вот мужик задумал зимой в избе сани делать, холодно, вишь, на дворе ему показалось, а в избе тепло…
– Надо лучше, – поддакнул кто-то.
– Делает да все бабу свою пытает: «Баба, – так?» А баба ему в ответ: «Так-то так, да вон-то как». Поработает, поработает да опять спросит: «Баба, – так?» – «Так-то так, да вон-то как». Так и дальше, пока все сани не кончил. Кончил, спрашивает в последний раз бабу: «Баба, – так?» А баба ему: «Так-то так, да вон-то как». А сама пальцем на дверь тычет.
Василий помолчал, посмотрел на недоумевающее, готовое совсем расплыться лицо Дмитрия, посмотрел на всех и прибавил:
– Дескать, – сани-то ты сделал и ладно, да в дверь-то то не протащишь ты их.
– А-а… – обрадовался, поняв, Дмитрий и захохотал. Хохотали все, не смеялся только Василий.
– Либо сани, либо избу уж разбирать, – добавил он ласково и тихо.
И еще громче смеялись, трясли головами и говорили:
– Ну, уж и дядя Василий! Слова не скажет без подковырки.
– Ну, идет!..
Толпа сразу стихла и смотрела, как подходил к ней Петр Федорович.







