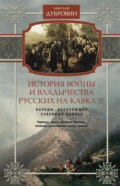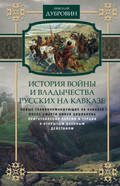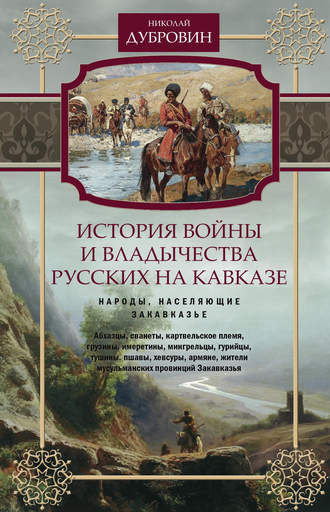
Николай Федорович Дубровин
История войны и владычества русских на Кавказе. Народы, населяющие Закавказье. Том 2
Рабами могли владеть все без исключения сословия, пользующиеся правами собственности.
Некоторые из владельцев, имея в виду религиозную цель, отпускали иногда на волю своих рабов или отдельных лиц из сословия ахуйю, с непременною обязанностью выучиться турецкому языку и приобрести умение читать известные молитвы из Корана, относившиеся до умерших. Такое обязательство возлагалось на отпущенных ради спасения души своей или кого-либо из близких родственников. Эти отпущенники получили название азаты; они не несли никакой повинности и были обязаны только читать молитвы по умершим. Класс этот, вообще немногочисленный, с приходом русских стал пополняться лицами, освободившимися из низших сословий, потому что теперь, под обеспечением русской власти, освободившиеся не имели надобности в покровительстве и защите родов, обязывавших их все-таки некоторой зависимостью. Не переходя в анхае (пиош), они делались азатами, то есть людьми вольными, не отбывавшими никаких повинностей.
Поселившись отдельными усадьбами, разбросанными в густых и часто непроходимых лесах, по ущельям и вершинам гор, абазины вели каждый отдельную свою жизнь, независимую от соседа. Оттого общественная жизнь там вовсе не развита. Все сословия, кроме рабов, имели равные права на свободу мнений, действий и уважения в народе. Личные заслуги, ум и опытность каждого отдельного лица давали ему большее или меньшее право на уважение, без различия звания, и часто голос старика простолюдина имел большее значение, чем неопытного молодого князя.
Отсутствие общественной жизни заставляло абазина, в обеспечение своего лица и имущества от насилий посторонних, искать содействия, покровительства и защиты среди родственников, и таким образом, как мы сказали, образовались родовые союзы, составляющие основание политического строя всего абхазского племени. Под опекой и охраной такого союза спокойствие абхазца было обеспечено, так как в делах одного члена союза принимали участие все остальные, и месть за оскорбление или убийство одного из членов составляла обязанность для всех остальных членов родового союза.
Родство и родовые связи тщательно поддерживались абхазцами: за обиду, насилие, рану или смерть родственнику восставал весь род, плативший обидчику жестокой местью. Зато абхазец ни за что не подымет оружия против своих родственников, если бы они жили вне Абхазии и владетель его был с ними в неприязненных отношениях. В этом случае абхазец готов скорее оставить свою родину, покинуть дом, чем видеть, а тем более участвовать в разорении или опустошении земель своего иноземного родственника.
С течением времени родовые союзы, все более и более расширяясь, приобретали больше значения и влияния. Собственно говоря, основу родовых союзов составляли члены двух сословий, князей и дворян. Зависимые сословия, в большинстве случаев, сливали свои интересы с интересами своих владетелей. Они обязаны были защищать своих князей и дворян и мстить за них врагам. В ответ владельцы, оказывая покровительство своим подвластным за обиду, нанесенную им, требовали удовлетворения от того родового союза, из которого происходил обидчик.
В интересах общих, относящихся до жителей известной местности или урочища, созывались местные собрания, а в делах, касающихся до всей страны или племени, – народные собрания. Члены одного родового союза жили в разных местах, и, напротив того, в каждом урочище, долине жили семейства, принадлежащие к разным родовым союзам; поэтому на народное собрание выбирались депутаты не от родов и родовых союзов, а от каждой местности или урочища.
Народные собрания происходили в местах, считавшихся священными: где-нибудь в роще, на холме, в ограде древнего монастыря и т. п. Местом народного собрания у джигетов был Чугур-Хапахский холм, находившийся близ реки Чугур, в 15 верстах от Гагр. «Холм этот недалеко от берега моря, окружен с трех сторон возвышенностями с крутыми склонами. На холме росло дерево, около которого валялись обломки оружия; дерево это было увешано лоскутками разных материй, а из ствола его торчали вбитые гвозди – все это жертвы во имя успеха набега или воровства».
В Абхазии такие народные собрания без ведома владетеля в последнее время не допускались. Там собрания могли быть созваны только для обсуждения таких дел, о которых народ намерен был просить владетеля, или для рассуждения о нуждах какого-либо отдельного рода, но и об них должно быть сообщено владетелю. Собрания же, созываемые секретным образом, считались заговором, и виновные в этом подвергались строгому взысканию.
Необходимость в охранении общественной безопасности вызывала часто народные собрания. Среди абхазских племен общественная безопасность, за отсутствием полицейских мер, не была ничем ограждена. Свободное употребление каждым оружия считалось ограждением каждого, но, в сущности, было главной причиной всех беспорядков и междоусобий: оно вело к кровомщению.
Кровомщение было развито у абхазцев точно так же, как и у других горских народов, и предотвратить его не было возможности. Неудовольствие и кровомщение между привилегированными сословиями прежде всего отзывались на их подвластных. Мстившая сторона врывалась в селение неприязненного ей владельца, как в неприятельскую страну, предавала все огню, совершала убийства, захватывала пленных, женщин и детей и, забравши в свои руки все, что было можно, уходила домой с добычей. Кайла (обязанность мести) переходила от отца к сыну и распространялась на всю родню убийцы и убитого. Самые дальние родственники и даже воспитанники были обязаны мстить за кровь убитого. Не желавших участвовать в кровомщении вовлекали в эти действия против воли. «Достаточно было, чтобы ближний его родственник потерпел кровную обиду. Эта обида считалась его обидою, и он обязан был вмешиваться в беспорядки, которых сам делался жертвой».
«Люди, не имевшие собственности и не дорожившие ничем, находили в подобных случаях средства к приобретению, тем более что все, захваченное во время кровомщения, оставалось безвозвратно в руках похитителей».
За разорение и убытки, причиненные кровомщением, никто не вправе был требовать вознаграждения. Владельцы отвечали за своих подвластных как за самих себя. В случае преступления, сделанного крестьянином, владелец его подвергался кровомщению и отвечал перед судом, как лично совершивший преступление.
Кровомщение было так распространено, нити его так перепутались между различными родами, что редкий из абхазцев не имел врага, способного его выждать на пути или где-нибудь в засаде. От этого туземцы никогда не расставались с оружием; с ним они выходили на полевые работы и переезжали самые незначительные расстояния.
Желание сколько-нибудь ослабить кашу вызвало между народом обычай, по которому, тотчас после совершения смертоубийства, родовая месть могла быть остановлена вмешательством других родов, предлагавших свое посредничество в деле примирения враждующих. При выраженном обеими сторонами согласии на мировую, дело передавалось на обсуждение народного суда, составленного из судей, выбранных обеими сторонами. Выбор судей представлял особые затруднения для посредников: необходимо было убедить и согласить обе враждующих стороны, так как каждая из них имела право устранить избранных противной стороною, если имела к тому основательные причины.
В судьи выбирались обыкновенно люди опытные, пользующиеся уважением и известные своим красноречием, честностью и беспристрастностью. Они носили название медиаторов, а самый суд назывался медиаторским; число судей, смотря по важности разбираемого дела, было различно. После выбора судей обе тяжущихся стороны извещали друг друга об именах выбранных судей и принимали присягу в том, что свято исполнят решения суда, в обеспечивание чего и представляли поручителей.
При отсутствии твердых верований и убеждения в святости присяги форма эта хотя и существовала с давних пор в Абхазии, но не имела особенного значения и силы. Абхазец боялся только ложно присягнуть пред образами св. Георгия Победоносца, находящимися в Пицундском и Иллорском храмах, и перед образом Божией Матери в стволе дуба, на холодной речке близ Бомбор. Этот дуб имел столь большое значение в народе, что святости его не мог нарушить даже и владетель. Он не имел права взять силою безоружного, бежавшего под сень дуба и под покровительство его святой иконы.
Оттого такой присяги, как мы понимаем, не существовало в действительности, а абхазец присягал и приносил клятву перед уважаемыми иконами, перед ружьями и перед наковальней.
В маловажных случаях абхазцы часто присягают в кузнице.
Присягающего приводят к наковальне, на которой лежит молот, и становят его против кузнеца, стоящего у той же наковальни; то лицо, по чьему делу приводят к присяге, становится в стороне. Взяв молоток, кузнец произносит клятву.
– Если я, – говорит он, вместо присягающего, – не скажу правду о том, о чем меня спрашивают, или если я виноват в том, в чем меня обвиняют, то да разобьет Шасшу-Абж-Ныха голову мою молотом на наковальне.
При этом кузнец ударяет три раза молотом по наковальне.
В том месте, где нет кузницы, для приведения к присяге вбивают в землю две палки на небольшом расстоянии друг от друга и на них вешают заряженные винтовки, так чтобы дулами своими они обращены были друг к другу. Присягающий произносит присягу и в заключение ее говорит: «Если я сказал ложь, то да поразит Шасшу-Абж-Ныха мою голову свинцовыми пулями из этих ружей» – и проходит между дулами ружей.
Если бы абхазцу пришлось солгать во время присяги, то он до такой степени верит в могущество этого божества, что сам скоро признается как в преступлении, так и в том, что он принял ложную клятву. Первый лихорадочный припадок (а лихорадка свирепствует в Абхазии), с головною болью и бредом, убеждает его, что Шасшу бьет его или молотом по голове, или направляет в него свинцовые пули, перед которыми он присягал. Больной прибегает тогда к помощи родственников, говорит, что прогневил Шасшу, просит их умилостивить его и сознается в своем преступлении и ложной клятве.
Родственники удовлетворяют истца, приводят на место присяги козла или барана, назначая его в жертву, когда больной выздоровеет, и, призвав к себе кузнеца, в присутствии которого совершалась присяга, они просят его, чтобы он исходатайствовал у Шасшу прощение больному. После выздоровления совершается обычным порядком жертвоприношение, и кузнец получает часть мяса жертвы и кожу.
Точно так же присягнувший ложно перед образом св. Георгия при первой болезни сознается в преступлении, и тогда родственники приглашают к себе того, кому больной причинил вред своей ложной присягой, и стараются вознаградить его. Вместе с тем приглашается и то лицо, которое приводило больного к присяге, и приводится тучная корова к крыльцу дома, на которое выносят больного и сажают на скамью.
– Доволен ли ты удовлетворением, – спрашивает приводивший к присяге того, кто был обижен, – и прощаешь ли больному проступок?
Получив утвердительный ответ, приводивший к присяге берет веревку, которая привязана на шее коровы, и обращается к св. Георгию.
– Св. Георгий Иллорский! – произносит он. – Прости этому больному его проступок, который он сделал неумышленно, по своей неопытности, и даруй ему здоровье: впредь он и его семейство будут приносить тебе ежегодно определенную жертву.
Обведя корову кругом больного и отрезав у нее кончик правого уха, привязывают его к правой руке больного, который и носит этот отрезок уха до совершенного выздоровления. Корова отпускается в стадо.
Присяга совершалась по средам и пятницам, но во время Великого поста она воспрещалась, кроме случаев, не терпящих отлагательства. К присяге не приводили мужа беременной женщины до ее разрешения, иначе, по верованию народа, произойдут непременно преждевременные роды, даже и в том случае, когда присягающий покажет истину, по совести. По народному обычаю, не допускали также к присяге свидетелей, на том основании, что свидетель ничем не отвечает за ложную присягу, которая, при низкой нравственности туземца, могла случаться очень часто.
По окончании присяги суд открывал свое заседание, для которого не было устроенных домов или особо назначенных мест. Судьи собирались где-нибудь в поле, под открытым небом, и прения происходили гласно, так что каждый любопытный мог присутствовать на разбирательстве.
Обе враждующих стороны находились тут же и располагались двумя группами, разделенными между собой группой судей. Во избежание кровопролития в случае жарких споров обе враждующих стороны выводились на суд без оружия.
Собственно в Абхазии, если разбираемое дело принадлежало к числу уголовных, то на суде председательствовал сам владетель, и тогда суд происходил или в Соук-Су, или в квитаулах – родовых его имениях.
Находясь посредине тяжущихся, медиаторы, или судьи, вызывали к себе сначала со стороны обвинителей избранного ими оратора, который излагал подробно весь ход дела. Потом выслушивали показания обвиняемых. Ораторы обязаны были говорить громко, чтобы обе стороны могли слышать их слова. Так как часто на расстоянии, на которое разведены тяжущиеся друг от друга, слова оратора одной стороны не могли быть слышны другой, то, во избежание недоразумений, один из судей, по выбору суда, излагал со всеми подробностями перед предстоящим оратором все, что объяснил оратор противной стороны. Эти последние лица выводили обыкновенно свои оправдания и обвинения с самых отдаленных времен, говорили весьма долго и много, вставляли в свою речь такие объяснения и обстоятельства, которые не относились вовсе к делу, не разъясняли его и не жалели, в своих обвинениях, ни чести, ни имени своих врагов. Свидетелей преступления почти никогда не было, и судьи о них и не спрашивали.
Выслушав обе стороны и удалив ораторов из своего круга, судьи оставались одни, обсуждали все обстоятельства, касающиеся дела, и выносили решение, которое объявлялось судящимся через старейшего по летам медиатора. Решение выносилось устно; но судьи никогда от своего мнения и слов не отказывались из опасения потерять доброе имя и уважение в народе. Объявление производилось тем же порядком, но только старец-медиатор вновь излагал перед тяжущимися весь ход дела, объявлял, что найдено судьями заслуживающим внимания и что не касающимся дела, спрашивал, не имеет ли какая-либо из сторон что-нибудь добавить или пояснить, не упущено ли что-либо медиаторами из виду, и когда получался ответ, что тяжущиеся не имеют ничего более прибавить, тогда медиатор излагал им мнение суда и его решение.
Если в суде происходило разногласие членов, то решали по большинству голосов. А в Абхазии поступали при этом так: во время присутствия в суде владетеля он решал на месте разногласие судей, а во время его отсутствия в суде судьи, сохраняя свое решение в тайне от тяжущихся, отправляли к нему двух членов суда, по изложении которыми обстоятельств дела владетель выносил решение, в обоих случаях приводимое в исполнение. Раз решенное дело не возобновлялось даже и тогда, когда обе стороны были недовольны его решением. Против медиаторов не было апелляции; судом их прекращалось право мести и дальнейшее возобновление иска перед лицом владетеля.
В случае неявки кого-либо к суду суд не открывал своих действий до тех пор, пока его не представят поручители.
Точно так же он не следил за исполнением своего приговора: за этим обязаны были наблюдать поручители. Наконец, суд не принимал на себя обязанности преследовать преступления, а проявлял свои действия только тогда, когда сами спорящие не видели другого средства окончить свои распри, как судом.
В Абхазии преследование преступлений всякого рода лежало, главным образом, на обязанности владетеля. Он имел право лишить свободы каждого, не исключая князей владетельного дома, а если арест произведен по уголовному делу, то и предать его суду. Лишение свободы или арест могли быть наложены как мера исправительная, не влекущая за собою суда.
Князья и дворяне имели точно такие же права относительно подвластных, но если арест произведен по уголовному преступлению, то обязаны были виновного представить владетелю.
Понятия абхазцев относительно преступлений были совершенно различны с понятиями, выработанными жизнью цивилизованных государств. Туземец не считал еще преступлением все то, что противно закону и общественному мнению; так, действия, нарушающие права личные и имущественные, не составляли преступления, а по народному понятию считались удальством, молодечеством, достойным подражания и сочувствия. «Вообще очень ограниченное число действий считается у абхазцев преступлениями; преступлением, по их понятию, почти исключительно считается действие, нарушающее права сильного. Рядом с этим руководящим взглядом на преступное действие самый строй жизни не представлял власти охранительной и исполнительной, так что в решении дел, касающихся личной свободы, прав собственности и общественного спокойствия, господствовал полнейший произвол».
По понятию абхазца, к высшей категории уголовных преступлений принадлежало семь видов преступлений: святотатство, богохульство, отцеубийство, братоубийство, посягательство на жизнь владетеля и членов его дома, измена отечеству и кровосмешение.
Вторую категорию составлял только один вид преступления: посягательство крестьян на жизнь своих владельцев. Оно наказывалось истреблением, без всякого суда, всего рода виновного.
К третьему виду уголовных преступлений причислялось четыре вида: убийство, публичное оскорбление и бесчестие женщины, похищение чужой жены или невесты, развод без согласия обеих сторон или родных.
За все виды преступлений существовало четыре вида наказаний: пеня, лишение свободы, заковывание в цепи и изгнание с родины.
Пеня взималась в прежнее время плодами земли, лошадьми, скотом и другими предметами. Впоследствии, когда абхазцы познакомились с деньгами, тогда пеня была заменена деньгами и уровень ее был заметно повышен.
Удаление с родины заключалось в том, что родные слагали с себя обязанность родовой мести за то лицо, которое подверглось изгнанию. С объявлением этого наказания все родственники, друзья и знакомые прекращали с преступником всякие сношения; опасались жить с ним в одном доме, сесть за общий стол, вступать с ним в разговор, и каждый постыдился бы отвечать ему на обиду обидой или местью. Изгнанный хотя и пользовался правом гостеприимства, но с такими особенностями, которые заставляли его отказываться от этого рода внимания своих соотечественников. На каждом шагу он встречал презрение и пренебрежение со стороны хозяев. Во время обеда и ужина его сажали за особый стол, где-нибудь в углу комнаты, и остатки его пищи отдавали псам, считая их нечистыми.
– От собаки – собаке, – произносил хозяин, выбрасывая остатки с его стола.
После ночлега хозяин сожигал тот клочок войлока или бурки, на котором спал изгнанник; все, к чему он прикасался, тщательно обмывали и очищали. Удаляясь из отечества, преступник знал, что весть о нем достигнет прежде, чем он прибудет к соседям, и что там встретит точно такой же прием, как и в родном крае.
В таком безвыходном положении он проводил время до тех пор, пока не отыскивался сильный благодетель или покровитель, который лично ручался перед родными изгнанника в его искреннем раскаянии и хорошем поведении. Тогда изгнанный снова принимался в общество, вступал в свои права и принимал свою прежнюю фамилию.
Этот вид наказания применялся иногда к первой категории уголовных преступлений, для которых собственно не было определено в абхазском кодексе никаких определенных взысканий. Абхазцы находили, что преступники такого рода подлежат суду Божию, и, по своему суеверию, полагали, что каждый, лишивший подобного преступника жизни, принимает на себя все грехи его. По этим причинам смертная казнь в Абхазии вовсе не существовала. В горной Абхазии измена наказывалась смертию: если совершил ее мужчина, то он должен был быть повешенным руками раба; если же женщина, то должна быть застрелена руками отца, брата или мужа.
Дела последней, третьей, категории разбирались судом посредников и в Абхазии собственно – под председательством владетеля. По обычаю народа, каждое из видов последнего рода преступлений могло быть только смыто кровью виновного, но владетель имел право требовать, чтобы вражда была окончена судом, и приказанию его никто не смел противиться. Форма производства суда в Абхазии была одинакова для дел всякого рода; все различие состояло в числе судей, смотря по важности дел. Тяжбы и иски незначительные рассматривались судьями, которые избирались самими тяжущимися. Неважные уголовные дела и важнейшие тяжебные, вроде владения недвижимой собственностью, разбирались судьями, утвержденными владетелем, и, наконец, важнейшие уголовные преступления и дела, относящиеся к родовой мести, судом, составленным из важнейших и почетнейших лиц, под председательством самого владетеля.
В Абхазии постоянные суды назывались аньихва-ахваз, что в переводе означает давшие присягу. В состав такого суда судьи, или бакаульцы, выбирались пожизненно на общем собрании народа. Выбранные приносили присягу, что будут исполнять добросовестно свою обязанность, и должны были являться для разбора дел по приглашению каждого, не получая за это никакого вознаграждения. Судьи выносили решение не произвольное, а основанное на адате (обычае) или шариате (духовный суд). От тяжущихся зависело в большинстве случаев выбрать тот или другой суд, и, конечно, каждая сторона выбирала то, что было для нее выгоднее. По законам шариата все мусульмане равны перед Кораном, и кровь князя или простолюдина ценится одинаково; адат же, напротив, признавал различие сословий, и кровь князя стоила дороже крови дворянина, а этого последнего дороже простолюдина. Естественно, что, основываясь на этом, люди высшего звания предпочитали адат, а низшего – старались подвести дело под шариат. Происходило столько споров и новых ссор, пока разбирался вопрос, как судиться, по адату или по шариату, что абхазцы, зная это, прибегали к суду только в крайнем случае, когда кровомщение грозило принять слишком широкие размеры или когда народ требовал, чтобы распря эта была прекращена. Вообще же большинство дел решалось по адату; к шариату прибегали редко, так как магометанство не было в значительной степени развито между народом.
Бесчестие женщины отплачивалось смертию. Неверную жену муж мог убить, а если этого не делал, то, по суду, она обращалась в рабу, и это обращение давало возможность мужу продать ее. Затем все виды третьей категории уголовных преступлений наказывались одинаковым штрафом, размер которого определен был для каждого сословия отдельно. За убийство князя взыскивалось 30 душ крестьян (по указанию некоторых, 30 мальчиков), лошадь со сбруей, полное вооружение и серебряная цепь вроде портупеи; за дворянина – 16 душ крестьян (или 16 мальчиков), а остальное те же предметы; за анхае – от двух до трех душ крестьян, ружье и шашка; за ахуйю – одна душа.
Нечаянное убийство ценилось вполовину, и в обоих случаях допускалась плата, вместо крестьян или мальчиков, соответствующим по ценности количеством скота. Перед судом князья и дворяне отвечали обиженному своим имуществом, а крестьяне своей личной свободой, если недоставало их имущества для уплаты пени. В последнем случае они становились собственностью обиженного, который мог их продать, променять или оставить у себя, пока они не найдут средств выкупиться.
После суда по кровомщению следовало примирение враждующих, совершавшееся торжественным образом, публично, при множестве свидетелей и непременном присутствии родственников обеих враждующих сторон. Ближайший родственник убитого произносил прощение и, как бы в забвение всего прошедшего и соединение прочнейшими узами дружбы, брал к себе на воспитание сына или родственника убийцы; случалось и наоборот: убийца брал на воспитание сына убитого. Сверх того, примирение производилось иногда посредством обряда усыновления, который состоял в том, что обиженный призывался в дом нанесшего оскорбление и, при свидетелях, целовал три раза грудь жены или матери хозяина дома и потом отпускался домой с подарками, считаясь усыновленным. В прежнее время воровство наказывалось весьма строго. В горной Абазии вор наказывался нагайками, возвращал покражу и, кроме того, приплачивал двух или трех баранов за свою неловкость. В Абхазии собственно за воровство, произведенное в первый раз, «брили вору один ус, за второе оба или выставляли нагого в летнее время на солнце и обливали медом, для того чтобы его беспокоили насекомые; в зимнее время выставляли его нагого на холод». Потом была введена пеня или штраф, состоящий из тройной стоимости украденого: две части шли в пользу хозяина, одна в пользу судей и 100 рублей за каждую вещь в пользу владетеля. За воровство, грабеж или убийство на земле владетеля или в соседстве его дома преступник, сверх обыкновенного взыскания, должен был уплатить владетелю двух мальчиков, ростом не ниже четырех и не выше шести ладоней, или, взамен их, деньги по стоимости. Для меры служила ладонь того, кто взимал пеню. От этого в Абхазии воровство встречалось весьма редко, но потом оно усилилось, с тех пор как народные обычаи стали терять свою силу. Воровством занимались большей частью высшие сословия, которые, считая труд стыдом, должны были пускаться в этот постыдный промысел для приобретения себе средств к жизни. Народ же вообще не терпит воров. При решении дел по ссорам и дракам судьи прежде разбора взыскивали с обеих сторон штраф в пользу владетеля, по пяти коров и по пяти рублей, а потом уже приговаривали виновного к плате пени обиженному. Иски о долгах отличались запутанностью и сложностью. Так, например, «если кто брал в долг корову, то через год обязан был возвратить корову с теленком, через два года – две тельные коровы, через три года – две коровы и двое телят и т. д., так что долг вырастал до огромных размеров».
Права поземельной собственности и имущественные строго соблюдались, и имущество каждого считалось неприкосновенным; ни за какое преступление и никто не мог лишать имущества своих подвластных. Поземельная собственность находилась в руках только двух сословий: князей и дворян. Земли, поступившие во владение какого-либо рода, оставались в его пользовании до последнего потомка мужского пола. Права наследства были чрезвычайно просты: недвижимое имение умершего делилось поровну между его сыновьями или, за неимением их, между ближайшими родственниками. В Абхазии старший сын, кроме следуемой ему части, получал вооружение покойного, его любимого коня и саклю. Дочери и жена у всех родов не имели никакого права на наследство, но наследники обязаны были их содержать, малолетних воспитывать и девушек выдать замуж. Имения лиц, оставшихся решительно без наследников, даже и самых дальних, поступали: княжеские и дворянские в пользу владетеля, а крестьянские в пользу их помещиков.
Из движимого имущества женская линия могла получить, по завещанию, часть в наследство.
Из всего сказанного видно, что в народе не существовало, в виде отдельных учреждений, ни охранительной, ни исполнительной власти; видно, что власть эта принадлежала членам высших свободных сословий и что большинство дел решалось силой оружия. Хотя в Абхазии и существовали судьи, но народ предпочитал за воровство платить воровством, за кровь мстить кровью, словом, больше всего руководился правилом: око за око, зуб за зуб.
В заключение остается сказать, что военное устройство и хищнические действия абазинского племени были совершенно сходны с черкесскими, к которым они, в этом отношении, приблизились гораздо более, чем к своим одноплеменникам – абхазцам.
Отправляясь на хищничество, абазины выбирали беллати – проводника, которым мог быть человек, прошедший огонь и воду. Для того чтобы быть беллати, недостаточно одной отчаянной храбрости, но он должен быть хитер, осторожен и очень чуток: от него зависит успех или неудача похода. Беллати должен знать каждую тропинку в горах и помнить все броды в реках.
Собравшись в набег, партия с рассветом оставляла родной аул и отправлялась прежде всего в заповедную рощу, оставляя коней при входе в нее. Там каждый старшина, окруженный своими одноаульцами, выбирал себе священный дуб, втыкал в него крестообразно две шашки, а между ними кинжал, читал предбитвенную молитву, повторяемую всеми остальными собравшимися, с аккомпанементом ладош. По окончании молитвы старшина вынимал кинжал, клялся над ним, что не будет щадить врага, умрет, как умирали его предки, и целовал клинок, что исполняли и все его сотоварищи.
Способ действий абазинов при нападении и отступлении, их взгляд на военную славу одинаков с черкесами. Но нельзя пройти молчанием ту особенность, которая замечается у абазинов при наказании труса или беглеца с поля сражения. Виновный в таком поступке связывался ремнями и выводился на средину улицы в толпу собравшихся зрителей. Жена, а если ее нет, то сестра его принимала от старшины плеть и под пронзительный вой туземной музыки отсчитывала несколько ударов по плечам виновного и концом своей чадры вытирала ему глаза, хотя бы на них и не было слез, давая тем знать, что трус не лучше бабы.
– Сестры, посмотрите на него, – говорит исполнявшая обряд, обращаясь к одним только женщинам.
– Нет! – отвечают те. – Мы можем только пожалеть его…
– Я, – говорит одна, – дарю ему свои шальвары.
– А я старую чадру…
– А я, – перебивает третья, – юбку.
Все подаренное приносилось на место наказания, на виновном разрывали черкеску, одевали его в женские лохмотья, сурьмили ему брови, румянили лицо, обрекали на изгнание и концом накаленного кинжала выжигали на лбу труса треугольный знак. Вслед за тем несчастный под звуки музыки выгонялся женщинами из аула палками.