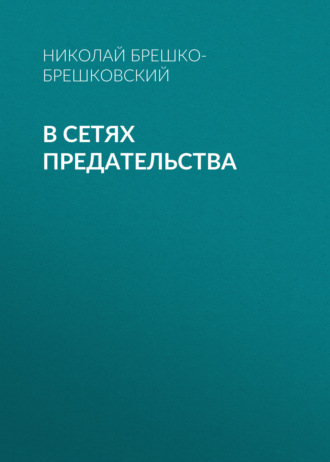
Николай Брешко-Брешковский
В сетях предательства
13. Все вместе
Холодная ванна, да и еще такая внезапная. Еще бы, самое дно Мойки зачерпнул своим телом, брошенным сверху… «Ассириец» очнулся – освежившийся, и никогда его мысль не работала с такой поспешной стремительной ясностью.
Хоть и в намокшем платье, он продержится на воде, умея плавать. Но Мойка, и справа и слева, – в отвесных гранитных тисках, и самому выбраться без посторонней помощи нет никакой возможности.
Он плыл крича:
– По-мо-ги-те!..
И, как всегда в таких случаях, – голос чужой, неестественный.
На Вовкино счастье, невдалеке, опершись на чугунную решетку, дремал краснолицый и рыжеусый чин речной полиции. Крик средь ночи коснулся «дремотного» уха.
– Прости Господи, и поклевать носом не дадут. Кого еще там угораздила нелегкая? Топились бы днем, а то нет, ночью норовят, добрым людям на беспокойство.
И рыжеусый чин двинулся по направлению крика. Вот он различает внизу в воде плывущую голову с бородою. В самом деле, такое впечатление, как будто плывет одна голова. Спросонок полицейскому жутко стало. И средь сумеречной дымки черноволосая, чернобородая голова казалась фантастически громадной и страшной.
Овладев собою, «речной» дал толковый и дельный совет утопающему:
– А вот сейчас около тебя слева ступеньки, держи на них, прямо держи дирекцию, ну и готово, спасенный!
Ларчик всегда открывается просто для тех, кто находится на берегу, но не для тех, кого какие-то невидимые гири начинают зловеще оттягивать ко дну.
Не укажи водяной «ассирийцу» гранитной лесенки, «ассириец» плыл бы мимо, весь в холодной тоске отчаяния, беспомощный. До тех пор, пока сил хватило бы. А так он уцепился за гранит, отдышался, вылез на первую мокрую ступеньку, посидел, еще отдышался и тогда только мог воспользоваться любезно предложенной рукою полицейского. Оба очутились на панели. С Вовки ручьями лилась вода. Лицо бледное-бледное, и ассирийская борода, мокрая, сбившаяся, утратила и свои завитки, и свое обычное великолепие.
«По обличию словно и барин заправский, – соображал водяной, – а поведение совсем непутевое». И он не знал, как говорить со спасенным утопленником – на «вы» или на «ты».
– Что же это, жизни себя, человек, хотел лишить? Грешно и опять же начальствующим людям беспокойство.
– Ты, как видно, обалдел, братец, или третий сон видишь! Я жертва разбойного нападения – понял?
Теперь водяной окончательно решил: пред ним настоящий барин.
– Так что теперь, господин, всякого жулья много. За всеми не усмотришь. Часы, кошелек, бумажник и прочее целы?
«Ассириец» не ответил, с удивлением, замечая, что находится в каких-нибудь ста шагах от дома, где живет Арканцев. Это более чем кстати. Герасим поможет ему раздеться, и, обсушившись, он пересидит до утра в одном из арканцевских халатов, пока Герасим доставит ему из «Семирамиса» свежий костюм. А самое главное – необходимо скорей поделиться с Леонидом Евгеньевичем своим приключением, едва не выросшим в настоящую катастрофу. Очевидно, агенты Юнгшиллера и компании начинают более активно проявлять свою деятельность.
– Час от часу не легче!
У ворот – голоса, движение, серая шинель полицейского офицера. Городовые, человек пять-шесть, ведут здоровенного почтальона.
– В чем дело, – спросил «ассириец», – кого это арестовали?..
– А тебе какое дело, кого надо, того и арестовали! – огрызнулся один из городовых, видя перед собою более чем подозрительного субъекта без шляпы, намокшего, как губка.
После долгих препирательств с дворником, который не хотел пускать его, хотя и знал в лицо, очутился Криволуцкий у Леонида Евгеньевича. Сановник встретил его в туго затянутом в талии халате и с дымящейся в зубах сигарой.
– Что у тебя здесь произошло? – недоумевал Вовка.
– Нет, ты, ты в каком виде! – воскликнул Арканцев.
– Спасибо и за это. Мог совсем утонуть, – и «ассириец» рассказал, что с ним было.
– Ну, конечно же, это ясно как Божий день. Дегеррарди решил убить сразу одним выстрелом двух зайцев, отделаться от твоей особы и произвести выемку из моего письменного стола некоторых документов. Болван! Если бы он знал, что все самое компрометантное для Юнгшиллера и Железноградова за полчаса перед его визитом унес от меня в своем портфеле полковник Тамбовцев. Я вижу, что репутация этого господина Дегеррарди сильно преувеличена… Говорили: «Бандит, ловкий шпион!» А если бы ты видел, как этот «бандит и ловкий шпион» дрожал у меня под револьвером? У меня, глубоко штатского человека. Что такое? Герасим? Герасим тебе не может помочь. Он сам нуждается в посторонней помощи. Иди в ванную, разденься, вымойся хорошенько, а я принесу тебе свежее белье и халат. Да, эта шайка обнаглела окончательно, и необходимо ее ликвидировать возможно скорее самым галопирующим темпом.
* * *
Как раненый медведь, заметался Юнгшиллер, узнав об аресте Генриха Альбертовича Дегеррарди.
– Ну, теперь этот опростоволосившийся мерзавец, спасая себя, свою собственную шкуру, будет всех топить! Всех!..
Но Юнгшиллер ошибся, думая так о человеке с загримированным самой природою лицом. Обыкновенно весьма и весьма развязный, словоохотливый, на допросах Генрих Альбертович отвечал обдуманно, сдержанно и, видимо обладая так называемой «разбойничьей совестью», не только не пробовал топить своих сообщников, но все время упорно твердил, что действовал и орудовал сам по себе и знать ничего не знает. У полковника Тамбовцева опускались руки.
– Этого гуся не обломаешь сразу… Многих приходилось мерзавцев допрашивать, а такого Господь Бог впервые послал…
У Юнгшиллера в привычку вошло плакаться во всех своих политических печалях и горестях в жилетку Уроша. И теперь сетовал:
– Вот видите, как против нас все складывается… Нет, я дурак… С первых же шагов, как только я убедился, что нам не везет, надо было бросить все и уехать за границу.
– И теперь не поздно, – утешил его сербо-словак, владеющий двадцатью двумя языками.
Юнгшиллер отвечал Урошу.
– Я думаю, что поздно… Думаю, что теперь поздно… И вы, господин Урош, тоже, нечего сказать, хороши. На вас возлагались такие надежды, говорили, что вы маг и чародей, а что вы, в сущности, сделали?..
– Очень много, смею вас уверить… В самом недалеком будущем вы убедитесь, что я действительно маг и чародей…
– Одни слова… Слова без дел, как это говорят по-русски, – слова без дел есть покойники.
– Слова без дел мертвы есть… Напрасно вы упрекаете меня, господин Юнгшиллер. А кто наладил вам голубиную почту?..
– Благодарю вас за эту голубиную почту! Покорнейше прошу! Восемьдесят процентов голубей совсем не долетели до места назначения, а те, которые долетели, у них оказался перепутанным текст.
– Разве перепутанным? Но не на ваших ли глазах я писал на пергаменте то, что нужно, и затем не на ваших ли глазах вставлял трубочки в цилиндрик из гусиных перьев и заклеивал воском?
– Да! Да! На моих, но текст перепутан. Еще раз скажу: вы ничем не оправдали возлагаемых надежд… А между тем стоите нам довольно крупных денег. Но вот что… Одним ударом вы можете все загладить… Слушайте внимательно… По моим сведениям, Тамбовцев должен уехать на этих днях во Псков. Часть документов, интересующих нас, он везет с собою, часть останется у него в квартире. Вы должны их похитить.
– Что такое? И это после того, как Дегеррарди всех и вся взбудоражил? Вы толкаете меня прямо в тюрьму.
– Я вас не толкаю никуда… Я только хочу, чтобы вы были хоть раз добросовестным агентом. Тамбовцев живет в квартире один. Супруга его на даче. Мое дело подкупить швейцара и получить ключ от парадной… Вы, господин Урош, должны взяться за дело на ближайших же днях. Тамбовцев едет во Псков послезавтра…
– Вы предлагаете мне опасную комбинацию… Поручите кому-нибудь другому, Шацкому… Этот сумеет…
– Я поручаю вам…
– А если я откажусь…
– А если я предъявлю куда следует вашу расписку? Помните, когда вы взяли у меня две тысячи?..
– Вы этого не сделаете, вы погубите нас обоих.
– Не думаю… А если бы и так, я решил пойти ва-банк!..
Они смотрели друг на друга пристально-пристально…
В глазах-буравчиках Уроша что-то зажглось и погасло.
– Хорошо… Будь по-вашему, я согласен!..
– Молодец, дайте вашу руку.
– Погодите, – молвил Урош, – погодите благодарить… Я не все сказал, я ставлю одно непременное условие: в квартиру Тамбовцева вы должны проникнуть вместе со мною…
– Вы с ума сошли…
– Ничуть! Вы гарантировали мне полную безопасность, так отчего же вы не хотите разделить ее вместе со мною? Швейцар и ключ – самое главное.
– Верно, это самое главное, – согласился Юнгшиллер, – дайте подумать, дайте подумать… – и, охваченный внезапным решением, сказал: – Хорошо! Мы будем там вместе! Хорошо…
Юнгшиллер потерял аппетит и сон. Тревожное состояние, схватив его за горло, не отпускало ни на минуту. И напрасно успокаивали его и Железноградов, и Елена Матвеевна, что все это вздор, улик прямых нет. Дегеррарди никого не выдаст, беспокоиться нет решительно никаких оснований. А, в крайнем случае, можно подъехать к Тамбовцеву. Он человек бедный, и кроме пяти тысяч двухсот рублей жалованья, – да и то, по военному времени, повышенный оклад – у него ничего нет. И если предложить ему миллион или хоть половину, у полковника закружится голова и все пойдет как по маслу…
Мисаил Григорьевич обратил внимание на долгое отсутствие Обрыдленко. Дней пять не показывался ему на глаза адмирал. Этого никогда еще не бывало. До сих пор они виделись ежедневно. Мисаил Григорьевич неоднократно звонил Обрыдленко. То его нет дома, то он отдыхает, то не может подойти к телефону. Банкир диву дивился; адмирал, по первому зову летевший к нему в любое время дня и ночи, вдруг «отдыхает, не может подойти к телефону». Наконец Железноградов залучил его к себе завтракать…
– Ваше высокопревосходительство, это еще что за новости? Почему не изволите являться, когда я вас приглашаю?..
– А почему я должен являться?..
– Ого, каким вы тоном заговорили? В чем дело? Скажите прямо, вы недовольны мною? Обиделись? Ведь я, кажется, всегда шел навстречу…
Обрыдленко снял пенсне и, протирая стекла, смотрел на банкира косоватыми, медвежьими глазками.
– Видите, Мисаил Григорьевич, я не обиделся, а только я не желаю, чтобы с меня сняли мундир…
– Что значит сняли? Ведь вы же в отставке. Вы можете носить штатское платье сами, по своему желанью…
– Но я предпочитаю носить погоны с орлами.
– Ничего не понимаю! Говорите толком!..
– Толком – извольте: нехорошие слухи ходят по городу, Мисаил Григорьевич…
– Какие слухи? Пойдем завтракать, Сильфида Аполлоновна уехала, и мы будем кушать вдвоем…
В громадной готической столовой, сидя против адмирала и обсасывая мягкие с обкусанными ногтями пальцы, которыми он «кушал» рябчика в сметане, Мисаил Григорьевич после какой-то чепушистой, полной бахвальства болтовни спросил еще раз:
– Какие же слухи, ну?..
14. В «Марсельском банке»
Полковник Тамбовцев, сопровождаемый находящимся в его распоряжении молодым капитаном, явился в «Марсельский банк». Новенький, с иголочки, сверкающий бронзою, мрамором и внушительными зеркальными стеклами, банк был реставрирован тем самым архитектором Блювштейном, которого Мисаил Григорьевич привлек к своей мавританской бане с гробницею Аписа вместо бассейна.
В громадном длинном зале с плафоном кисти академика Балабанова изображен Зевс, золотым дождем осыпающий Данаю, – за проволочными сетками и стеклянными кассами стояла и сидела целая армия весьма приличного вида старых, пожилых и совсем молодых людей, словно изготовленных по одному и тому же образцу.
Одинаково одеты, одинаково говорят, смотрят, курят папиросы и пьют казенный чай. Грум не грум, лакей не лакей, шассер не шассер, казачок не казачок, словом, юноша наглого вида, прилизанный, в куцей, обшитой галунами куртке, с четырьмя рядами металлических пуговиц и в широких книзу, как у английских моряков, панталонах, переспросил довольно развязно:
– Как о вас доложить господину директору Раксу?
– Доложи полковник Тамбовцев.
Нахальный мальчишка юркнул за громадную, сияющую, как и все здесь сияло, дверь и через минуту вернулся.
– А по какому делу, спрашивает директор?
Тамбовцев и капитан переглянулись.
– Скажи: по делу банка у меня частных дел к господину Раксу нет никаких.
Опять поглотила сияющая дверь обладателя куртки с четырьмя рядами пуговиц.
– Можете зайти.
– Хулиган, говорить не умеешь! – не выдержал полковник.
Мальчишка покраснел и, фыркнув что-то под нос, исчез.
В большом светлом кабинете сидел за столом господин Ракс. В его сияющей лысине отражалась хрустальная, спускавшаяся с потолка люстра-модерн.
Ракс был в меру тучен, в меру выхолен, откормлен. Он уже достиг тех ступеней благосостояния, когда человек, вынырнувший из ничтожества, сам натерпевшийся не мало нравственных плевков, может позволить себе роскошь, в соответствующих обстоятельствах, конечно, быть и резким, и надменным, и грубым…
Господин Ракс окинул вошедших через пенсне взглядом, по крайней мере, директора департамента. Ему ничего не сказал или сказал очень мало этот скромный, ежиком остриженный полковник, в защитном кителе – не френче, а просто кителе и, вдобавок не особенно свежем, – под мышкой вздувшийся портфель. К тому же посетитель не гвардеец, не князь, а всего-навсего полковник Тамбовцев.
В глубине кабинета за другим столом сидел еще кто-то. Окинув равнодушным взглядом вошедших, этот «кто-то» опять ушел в свою работу.
Сделав общий полупоклон, Тамбовцев направился к Раксу. Тот смотрел на полковника спокойно, ожидая и в мыслях не имея приподняться. И когда Тамбовцев подошел к нему вплотную, Ракс сидя протянул ему руку. Она повисла в воздухе. Тамбовцев не заметил ее.
– Воспитанные люди привстают, здороваясь! А когда к вам приходит офицер, находящийся при исполнении служебных обязанностей, вы должны стоять. Потрудитесь встать!
Ракс мгновенно вскочил, как встрепанный, и куда девалось его олимпийско-директорское величие.
– Я очень извиняюсь, право… Столько посетителей…
– Мне ваших извинений вовсе не надо. Я приехал по делу. Потрудитесь взглянуть, вот ордер, по которому я должен произвести обыск всех банковских книг и документов.
– Обыск? Почему обыск? На каком основании обыск? – побледнел Ракс. – Ваше превосходительство, ведь это ж нельзя так сразу! У нас громадный архив, это займет несколько дней.
– Ошибаетесь, господин Ракс, это займет ровно четверть часа. Я должен взять с собою такие и такие дела. – Тамбовцев назвал последовательно целый ряд номеров. – Остальное меня нисколько не интересует.
– Ваше превосходительство…
– Не называйте меня превосходительством, я не генерал.
– В таком случае… господин полковник, вы разрешите мне… согласитесь сами, это так неожиданно… известить моего патрона Мисаила Григорьевича Железноградова.
– Не разрешаю ни в коем случае! Если нам с вами придется покинуть кабинет, – капитан, мой помощник, останется здесь на время, чтобы этот господин никому не звонил в телефон и не выходил отсюда, пока не будут в моих руках упомянутые дела.
Бледный, весь в холодной испарине, обмякнувший, Ракс, покорный, – будешь покорным! – своей судьбе, склонил голову.
– Как прикажете, как прикажете, ваше… господин полковник, я весь в вашем распоряжении.
Минут через двадцать пять Тамбовцев покинул «Марсельский банк». Его и без того пухлый портфель распух вдвое.
По широкой мраморной лестнице, вслед за неожиданным посетителем, скатился мячиком Ракс, выбежал на улицу с непокрытой головой, растерянный, проводил Тамбовцева до извозчика. Вернувшись, Ракс, с неподозреваемою легкостью, как чемпион-скороход, одним духом взбежал по лестнице, пронесся метеором мимо армии банковских служащих и, тяжело дыша, упав животом и грудью на свой стол, поспешил соединиться с Железноградовым.
– Алло, кабинет банкира и генерального консула республики Никарагуа Мисаила Григорьевича Железноградова.
Директор узнал голос лакея.
– Проси барина к телефону!
– Их превосходительство изволят кушать…
– Попроси немедленно, слышишь? Скажи: просит Ракс, господин Ракс, по очень важному делу.
– Хорошо, я доложу, а только приказано, когда изволят кушать, чтобы их не беспокоить.
Лакей удалился. Ракс, все еще тяжело дыша, ждал. Прошла минута-другая. Сначала директор слышал чавканье. Видимо, патрон, прежде чем заговорить, прожевывал что-нибудь вкусное по дороге из столовой в кабинет.
– Ну?.. – Чавк, чавк… – За каким чертом… – Чавк, чавк… – вы меня беспокоите, Ракс? – Чавк, чавк…
– Мисаил Григорьевич, я очень извиняюсь, что оторвал вас, но вы понимаете – обыск…
– Ни слова больше по телефону, марш сию же минуту ко мне.
Железноградов вышел к Раксу с закапанной соусом салфеткой на груди.
Сбивчиво, перебиваясь, волнуясь, рассказал Ракс, в чем дело.
– Только и всего? – спросил Железноградов, высмокивая языком неподатливый кусочек пищи, застрявшей между зубами.
– А разве… разве этого мало?
– Ракс, вы дурак!..
– Я?
– Натурально, вы, – не я же! Чепуха, вздор! Кто-то хочет сделать на мне карьеру, но это таки да не удастся! А вот что он сломает на мне свою шею, это таки да, верно, как говорят в городе Одессе. Я же вам говорил, что я на всех плюю с аэроплана.
– Но позвольте, Мисаил Григорьевич, в его руках дело касательно взаимоотношений с «Южным страховым обществом».
– С аэроплана!
– Затем относительно шведской стали.
– С аэроплана!
Ракс привел еще несколько, по его мнению, довольно рискованных дел и получал один и тот же неизменный ответ:
– С аэроплана!..
В конце концов, хлопнув Ракса по плечу и ткнув в живот, Мисаил Григорьевич предложил ему кофе.
– Садитесь. Сколько лет мы с вами… сколько лет вы у меня служите?
– Четыре года.
– И за четыре года не успели ко мне присмотреться? Меня называют Наполеоном, а я всем говорю на это, что у Наполеона была Ватерла, у меня же Ватерлы не будет! Понимаете, не будет!
И перед самым носом Ракса Железноградов помахал мягоньким, коротеньким, с обкусанным ногтем указательным пальцем.
– Дай Бог, дай Бог, – отодвигая свой нос, молвил Ракс.
– Пока я при своих миллионах, – а этого добра у меня много, – я ничего не боюсь! Вчера этот дурак Обрыдленко, там, – жест по направлению столовой, – начал меня запугивать. То есть, вернее, он сам испугался. «Про вас говорят то-то и то-то». Что говорят? Он и давай выкладывать. Говорят, что путем разных финансовых комбинаций вы понижали курс нашего рубля. Еще, говорит, помните, был момент, когда исчезло все серебро, – говорят, вы скупили его, чтобы перепродать с большой прибылью немцам в оккупированных ими польских губерниях. Я слушал его терпеливо и потом знаете что ему ответил?
– Что?
– «Ваше превосходительство, вы болван!» И что же вы думаете, все его дурацкие сомнения как рукой сняло! Он опять стал в меня верить, как в дельфийского оракула. На все эти сплетни, слухи, инсинуации я не обращаю никакого внимания. Тамбовцев может рыть под меня яму сколько его душе угодно! Этой ямой он готовит могилу для самого себя. Наконец, послушайте, будем говорить откровенно. Допустим, теоретически допустим, в идее, – чего на самом деле я не допускаю, это немыслимо, – что меня вдруг взяли и посадили. Несправедливо, без всякой вины, словом, взяли и посадили. Мне припоминается, видел я где-то юмористическую картинку. Две картинки. На первой человек входит в тюрьму, надпись: «Богач, у которого „несть миллионов“». На второй этот же самый господин выходит через месяц из тюрьмы. Надпись: «Богач, у которого четыре миллиона». Нет, все это чепуха. С аэроплана! Вот вам блестящий пример, как относится ко мне лучшее общество. Сливки!.. Через неделю у меня торжественное открытие ванной комнаты в мавританском стиле, я вам ее сейчас покажу, я разослал больше двухсот приглашений, и что же вы думаете?
Все откликнулись, как один человек, все! Закачу такой ужин, чертям тошно будет. Шестьсот флаконов шампанского, больше чем по два на рыло. Будут живые картины из арабского жанра. Мой художник Балабанов ставит. Все откликнулись, а ведь вы знаете, я какой-нибудь шушеры не позову. Вы это знаете!
Ракс, не получивший приглашения на открытие мавританской ванны, молчаливым кивком согласился, что действительно, какой-нибудь шушеры патрон его не повезет на этот блестящий вечер с изумительным ужином, шестьюстами флаконами шампанского, сливками общества и картинами из «арабского жанра» в постановке художника Балабанова.
– Вы понимаете, Ракс, а теперь идем, я вам покажу ванную комнату.
15. Развенчанная «герцогиня»
Елена Матвеевна Лихолетьева замечала – да и нельзя было не заметить, что «склад» ее с каждым днем все пустеет и пустеет; в конце концов началось повальное бегство.
Куда девались жены тайных советников, камергеров, по целым дням торчавшие на складе среди солдатских рубах, фуфаек, кальсон и, как милости, ожидавшие «высочайшего выхода» Елены Матвеевны?
Только в задних комнатах, в комнатах плебса, продолжали по-прежнему стучать швейные машинки. Эти бедные, скромные женщины, отделенные от аристократической части склада непроницаемой китайской стеною, ничего не слышали и не знали. Да если бы и знали что-нибудь – они здесь не ради карьеры своей и прекрасных глаз Елены Матвеевны, а во имя доброго патриотического дела. Им не надо спасать свою репутацию, как женам тайных советников и камергеров, что так «обожали» Елену Матвеевну, лезли навязчиво к ней в подруги, льстили, а теперь, боясь повредить себе, главное, мужьям, отшатнулись, и так основательно отшатнулись, что при встречах не узнают «дорогой Елены Матвеевны».
Это был зловещий признак… В обществе так прямолинейно отворачиваются лишь от тех, чья отходная уже пропета. От тех, кто упал, чтобы никогда не подняться больше…
Другая на месте Елены Матвеевны потеряла бы голову. Но Елена Матвеевна была дама с характером. И если вся эта пресмыкающаяся перед нею шушера заживо хоронит ее, она еще жива и не сказала своего последнего слова…
Но с фактами нельзя не считаться… Склад опустел, его пришлось закрыть. И не только потому лишь, что опустел, а «вообще» лучше было закрыть. Наступило такое время – чем меньше будут говорить о Лихолетьевой, повторять ее имя, интересоваться ею, тем удобнее и выгоднее для нее.
И уже не появлялась она владетельной герцогинею со свитой среди дам и барышень, искавших: одни – снисходительно подставленной для поцелуя бледно-восковой щеки, другие же – короткого, скользящего рукопожатия и, наконец, третьи – милостиво брошенного кивка…
Да и свита некоронованной герцогини объявила «забастовку» вместе с женами тайных советников и камергеров.
Куда девался армянский крез?..
Хачатуров, целовавший ее следы, подол платья, по десять раз в день умолявший по телефону принять его, Аршак Давыдович, которого она в глаза и за глаза величала своей комнатной собачонкою, перестал вдруг звонить, показываться…
Это задело Елену Матвеевну за живое.
И он туда же! Слизняк, ничтожество! Какая дерзость! Как он смеет?..
Несколько дней она выдерживала характер… Сам явится… Но Хачатуров не являлся. Гора не шла к Магомету…
Хачатуров жил в гостинице «Европейской». Он снимал роскошные апартаменты за двести пятьдесят рублей в сутки. Поборов свою гордость, Елена Матвеевна позвонила к нему. Мальчик при телефонной станции отеля, прежде чем соединить с апартаментами армянского креза, полюбопытствовал:
– А кто изволит спрашивать?..
Лихолетьева, назвав себя, через минуту услышала:
– Их нет дома…
Так было несколько раз. Видимо, Аршак избегает. Значит, действительно сгущаются какие-то мрачные, низко нависшие тучи, если даже он, он спешит сжечь свои корабли…
Елена Матвеевна убедилась, что и с ее спокойной проницательностью можно ошибаться в людях.
Она считала Хачатурова своим рабом, предметом, бессловесной вещью, и вот, не угодно ли, этот раб, эта вещь избегает ее, не подходит к телефону.
Самолюбие Елены. Матвеевны было сильно уязвлено. А главное, не так самолюбие страдало, как неприятно сознавать, что вместе с охлаждением Аршака Давыдовича прекращается и тот обильный золотой дождь, которым этот армянский Зевс осыпал свою Данаю с берегов Мойки.
Дабы выяснить все окончательно, Даная решила сама пойти к Зевсу…
Надев густую вуаль, сумерками отправилась Елена Матвеевна в «Европейскую». У входа в апартаменты Хачатурова дежурил на коридоре его собственный лакей. Он знал Елену Матвеевну. Елена Матвеевна знала его.
Лакей сделал каменное чужое лицо.
– Их нет дома…
– Открой дверь!..
– Я же вам докладываю, ваше высокопревосходительство, что Аршака Давыдовича нету. А без себя приказали никого не пускать.
– Как ты смеешь, болван!
Высокая, внушительная Лихолетьева, резким движением оттолкнув прочь лакея и рванув дверь, вошла…
Знакомая передняя, знакомая белая гостиная-салон и знакомый голос откуда-то из глубины:
– Кто там?..
Елена Матвеевна пошла прямо на этот голос.
Сидя у горящего камина, Хачатуров полировал ногти. Семимесячный недоносок, взращенный в нагретом, тепличном воздухе, Аршак Давидович навсегда остался чувствительным к холоду, зябнущим. Его, словно какую-нибудь тропическую ящерицу, всегда знобило, и он искал нагретого воздуха. Вот почему этим июльским вечером пылал у него камин.
Сидя спиною к дверям, он увидел в зеркало приближавшуюся фигуру Елены Матвеевны. Увидел и пошевельнулся только затем, чтобы выразить свою досаду. Он передернул плечами, забросил ногу и остался сидеть, маленький, невзрачный краб с громадным носом и прозрачными, белыми, как у трупа, веками.
Вслед за Еленой Матвеевной Хачатуров увидел в зеркале растерянного лакея.
– Скотина, ведь я же приказал тебе! Вон выгоню!
– Аршак Давыдович, я же не виноват. Она меня толкнула и сама…
– Ладно, пошел вон отсюда!..
Аршак Давыдович и Елена Матвеевна остались вдвоем. Это был один из редких случаев, когда уверенное в себе самообладание покинуло Елену Матвеевну.
– Встать сию же минуту! Как вы смеете сидеть, когда входит дама!..
Аршак Давыдович неохотно, как будто спина его с трудом отклеилась от спинки кресла, приподнялся.
– Извиняюсь, но врываться, когда слуга заявляет, что нет дома, тоже не совсем корректно.
– Не говорите глупостей, Аршак! Что все это значит?..
– Что такое, в чем дело?..
– Почему вы пропали? Не заезжаете, не звоните, сами избегаете телефона? Неужели вы такой, как и все, и на вас, как и на всех, подействовали какие-то глупые, нелепые слухи…
– Слухи? При чем здесь слухи! Все это время был очень занят.
– Заняты? Вы, Аршак? Не смешите, ради бога! Чем? Выдумывали какие-то мраморные стойла для ваших московских конюшен?
– Почему мраморные? – не понял нефтяной король.
– Джентльмены так не поступают. Наши отношения обязывают вас к другому образу действий.
– Какие же, в сущности, отношения? Будем говорить откровенно. Если… если иногда вы снисходили ко мне, грешному, с высоты вашего величия, так ведь это же… это оплачивалось по-царски. Больше, чем по-царски!
– Негодяй, как вы смеете говорить со мной таким языком, таким тоном!
– Елена Матвеевна, я же предупредил, что буду откровенен. Иногда не мешает называть вещи собственными их именами. Ведь я же знаю себе цену. Имею мужество сознаться: я некрасив, почти урод и в Аполлоны Бельведерские ни с какой стороны не гожусь. Умом Вольтера – его блеском я тоже не обладаю. Но у меня десятки миллионов, способных увеличить мой рост, уменьшить нос и сделать меня умным, когда я говорю глупости. Комментарии излишни.
– К чему это все?
– Я этого не навязывал. Вы сами пришли, сами повернули так, что я должен был высказаться…
Первым желанием Елены Матвеевны было приподнять дрожащими пальцами вуаль, открыть свое бледно-восковое, с красивыми, хотя и крупными чертами лицо, – и почувствует же он в ней, этот краб женщину, которую чувствовал всегда с такой остротою! Но сейчас же инстинкт подсказал Елене Матвеевне, что комедия соблазна ничего ей не даст, кроме нового унижения. Решительно ничего. Между ними воздвигся какой-то невидимый барьер. Этот барьер – животная трусость армянского креза. Трусость, убивающая всякое желание.
Вуаль осталась неподнятой.
– Я ухожу… мне остается только пожалеть, зачем я сюда пришла…
– Нет, погодите, Елена Матвеевна, погодите, я вовсе не хочу, чтобы вы считали меня подлецом по отношению к вам. Давайте в открытую… Да, я действительно избегал вас, прятался, это верно все. Я решил, что надо покончить. Во-первых, вы меня обманули: вы обещали мне чин действительного статского, дворянство, я сыпал на это деньги, сыпал, не считая, и что же вышло? Ничего!.. Затем эти слухи… Дай бог, чтобы они оказались нелепыми, вздорными, но пока они не только не уменьшаются, а растут, увеличиваются… Я решил держаться подальше… Я не хочу быть замешанным в какую-нибудь… – он хотел сказать «грязную», – неприятную историю. А потом… потом узнал вещь, которая бросила меня в дрожь. Меня, как вы знаете, человека не особенно сентиментального и больше всего думающего о самом себе…
– Что такое вы узнали?.. Какие еще новости?..
– Относительно этой несчастной Искрицкой. Говорят, что это была ваша идея – обезобразить ее.
– Моя идея? Да вы с ума сошли, Хачатуров!..
– Хорошо, что этот Корещенко оказался порядочным человеком. Он не бросил ее, лечит, и они уезжают куда-то за границу, кажется, в Париж, где есть шансы ее вылечить. Но если бы этого Корещенки не было совсем, если бы его не было, что она делала бы? Что ей оставалось бы? Заживо гнить безо всяких средств, без копейки! И когда я узнал, это меня окончательно заставило порвать с вами всякие отношения. Дойти до такой чудовищности, низости! Из-за чего? Из-за того, что лишняя сотня тысяч перепала бы не вам, а ей. Как будто вы не тянули с меня сколько вашей душе было угодно… Уходите, Елена Матвеевна, уходите! Мне страшно с вами. Вы страшная женщина! И мой вам совет – уезжайте куда-нибудь – в Крым, на Кавказ, а если получите паспорт, самое лучшее – за границу. Уезжайте… Вам рискованно здесь оставаться… Уезжайте…







