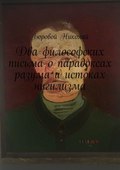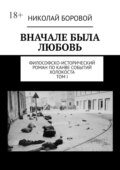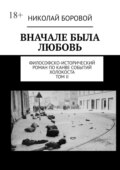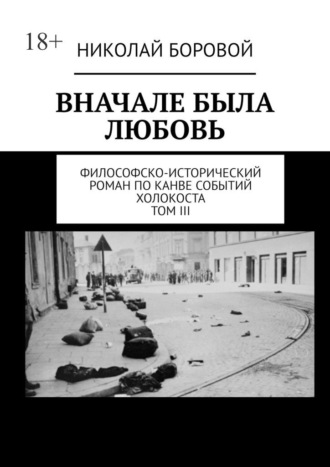
Николай Боровой
Вначале была любовь. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Так – относительной безопасности, в радостях творчества и близости, в надеждах и мыслях о Польше, протекли два года. Когда в январе 1945 Польшу освободили, Войцех и Магдалена практически решили для себя – как только закончится бойня, они подождут немного, осмотрятся и вернутся. А в июне Магдалене предложили поступить на преподавание в консерваторию… такой удачей, пусть даже на время, но нельзя было пренебрегать. Потом стали налаживаться дела у него. Они всё равно продолжали переписываться, жить мыслями в Польше, быть в курсе всех дел, нацеливались вернуться и не скрывали этого. Лер-Сплавински, от письма к письму, призывал Войцеха подождать, «ибо зная натуру пана профессора, которая навряд ли переменилась, уверен, что ему приспособиться к новой Польше будет не легко». Опять ждать… проклятое «ждать»… Они ждали, и жизнь их стала во время ожидания всё более налаживаться. Приросшим в Западной Европе Войцех ощутил себя после успеха его книги и восстановления в профессорском звании, после покупки квартиры… Внутри что-то словно надломилось, почувствовалось – у чужого берега брошен якорь, корни пущены на чужой земле, которая – в том-то всё и дело! – всё равно скорее всего не станет никогда своей… Но надежда и желание вернуться всё равно жили… Второй удар Войцех получил в 49-ом, в одном из писем Лер-Сплавински, в котором пан ректор, а ныне просто профессор родного Ягеллонского университета сообщал спасенному коллеге, «что по причине некоторых его публикаций и в польских и еще более – в западных изданиях, имя и философия профессора Житковски ныне клеймятся ярлыком „буржуазного реакционизма и декадентства“ и в практическом отношении, для карьеры и судьбы пана профессора в случае его возвращения, это не будет означать ничего хорошего». Отчаяние и тоска по Польше, ощущение, что если они не вернутся сейчас, то не вернутся уже никогда, целиком захватили их летом 51-го. Они решили – поедут в отпуск на полтора месяца, посмотрят и постараются прочувствовать жизнь, и если ощутят, что сумеют устроиться, то вернутся, чтобы там ни было. Плевать на всё – на статус обоих и гонорары Войцеха, на широкую известность, которую приобретали в Западной Европе и США его работы, на корни в Женеве и завоеванное уважение новых коллег, на многое. С собственностью – потом разберутся. Главное – почувствовать, что они смогут более-менее полноцено жить на Родине, обеспечить будущее Юзефу, заниматься по настоящему делом. Они выправили визу, доехали до Вены, собирались ехать через Прагу и Остраву – повторить путь их спасения и бегства, но уже совершенно другими глазами… А в Вене – отбили Лер-Сплавински телеграмму, где сообщали о приезде… В тот же вечер им в гостиницу пришла телеграмма-молния, подписанная именем Тадеуш Лер-Сплавински – «друзья, умоляю вас хранить себя, не делать глупостей и помнить об обстоятельствах девятилетней давности». Более внятного предупреждения об опасности получить было нельзя, они не рискнули и вернулись в Женеву. Лер-Сплавински уже второй раз спасал им жизнь. Позже они узнали, что тот год, в который они решили, по принципу «будь что будет», попытаться вернуться в Польшу, во всех странах социалистического лагеря был пиком политических репрессий и Войцеху, попади он даже как швейцарский к тому времени гражданин в родную страну, светило бы весьма трагическое будущее. Для такого «будущего», по иронии судьбы, было бы достаточно одного его участия в работе СВБ и Армии Крайовой, а весь остальной – довоенный, оккупационный и послевоенный антураж жизни, облика и творчества пана профессора, конечно бы довершил дело. Они возвратились в Швейцарию, продолжили там жизнь и работу, понимая, что вернуться в Польшу не решатся и не смогут наверное уже никогда. Они приедут в Польшу в 1957 году, и впоследствии будут приезжать туда часто, но об этом будет сказано чуть ниже.
А что же Магдалена? Неужели Войцех забудет о неоднократно произносившейся им мысленно клятве жить ею, ее будущим и надеждами, возрождением ее для творческой жизни? Неужели забудет, что именно об этом думал в ту страшную, могшую стать роковой ночь, когда шел с двумя «соратниками» из польского подполья к реке? Ну конечно же нет…
Жизнь и судьба Магдалены, собственно, начнут налаживаться даже раньше, чем у Войцеха, как уже сказано. Вдохновленная всё же состоявшимся вместе с Войцехом опытом чисто исследовательского, философского по сути творчества, она продолжит это и далее – в диалоге с профессором Войцехом Житковски, ее до беспамятства любимым мужем, но уже самостоятельно, нередко не соглашаясь и споря с ним. Творчество книг и исследования, преподавание теоретических дисциплин станут тем содержанием ее жизни, которое более никогда не позволит ей ощущать свою жизнь безликой, серой и лишенной смысла… Но всё же – в ней останется не реализованный, не нашедший выхода талант и темперамент исполнительницы, которая могла стать гениальной, жила внутри музыки, мыслила и говорила музыкой о самом личном и важном, понимала и ощущала музыку как речь… Очень часто она будет останавливаться возле классов, в которых занимаются солисты, вслушиваться в звучащую игру… Это будет причинять жгучую, нестерпимую боль, но тяга к живой музыке всё-таки пересилит и она начнет заходить в классы, получит разрешение оставаться, наблюдать и слушать. Будет слушать игру молодых людей, объяснения их педагогов, понимать мучительно, какой же талант заживо погиб в ней и на какой высоте трактовки и виртуозности находилось ее исполнение… Ведь она очутилась волей судьбы по истине в страшном положении – обладая невероятной силой личностных, нравственных, творческих побуждений, на переделе глубины и накала ощущая жизнь, мир и саму музыку, была лишена того таланта, который единственно позволял ей в полноте и экстазе выразить, воплотить всё это. Она была подобна пророку, обреченному на вечную немоту, солисту, лишившемуся в расцвете карьеры голоса, ничего больше не могущему в жизни, и потому не способному более наполнить жизнь смыслом. Скульптору, оставшемуся без рук и до конца дней обреченному лишь выть от бессилия, не от физической, а от нравственной и личностной немощи. Это действительно оставалось проблемой и довольно трагической, ибо сила рожденного и написанного слова, которой она, благодаря Войцеху, теперь научилась творчески жить, всё же не могла до конца выразить артистической, разносторонне творческой личности, какой была нынешняя фрау Магдалена Житковски, урожденная Збигневска, дочь Юзефа и Марии Збигневских. Это была проблема, и проблема эта была долгое время неразрешима, ибо если писать и печатать Магдалена с участием правой руки могла, то извлечь той какие-то полноценные звуки было ей недоступно, а учиться играть только левой, даже невзирая на наличие серьезного репертуара, категорически отказывалась. Левая рука служила только тем нуждам, которые возникали в ходе преподавания теоретических дисциплин. Долго она не решалась давать какие-то советы – ее имя не успело долететь из Польши до этих мест и никто не представлял себе, чем была ее игра, а ныне она была неспособной пробежать даже простые пассажи. И тем не менее – однажды, когда это всё же случилось, ее советы, понимание и чувство музыки показались студентам очень глубокими и дельными. Ее стали просить давать советы, немало студентов стало негласно посещать их с Войцехом дом, заниматься в ее присутствии и под ее указаниями. И хоть она невероятно стеснялась по началу своей немощи, пианисты стали просто валить к ней толпой и вместе с ней, в тайне от их основных педагогов, готовили наиболее серьезные выступления, ценя на вес золота ее указания касательно трактовки, акцентов, перепадов ритма и темпа, тех или иных приемом и прочего. Ей же всё это стало важным как сама жизнь, любовь к сыну и мужу – пусть не своими, а чужими руками, но она возвращалась в музыку, в смыслы и язык музыки, в таинство исполнения, возвращалась к самой себе, казалось – навеки утраченной и оставшейся лишь в памяти…
Но главное – верить с открытыми глазами, надеяться и бороться.
Войцех недаром многократно провозглашал в мыслях эту истину, выносив верность ей в адских муках и кульбитах судьбы, в самых тяжелых испытаниях. И Магдалена разделила с ним эту истину, впрочем – совсем не чуждую ее характеру и до всего трагического, что произошло с ней, просто оставившую ее душу и ум в наиболее страшном. И то, что она продолжала быть, будучи матерью прекрасного сына, любимой и любящей женщиной, талантливой исследовательницей, в которой всё чаще начинали видеть не музыковеда, а настоящего и глубоко самостоятельного философа, подтверждало незыблемость этой истины и оказалось возможным только потому, что в один страшный, но знаковый для их жизни и судьбы момент, ее муж, профессор Житковски, сумел убедить ее в той поступком, а не словами. Ее спасла тогда его, ничуть не умершая за годы разлуки, не поколебавшаяся от всего ею пережитого, безусловно настоящая и редкая этим любовь… Ее спас их сын Юзеф, зачатый в тот страшный испытаниями и муками момент, ныне росший им обоим на радость и заставлявший обоих дрожать над ним от трепета, заботы и любви. Дитя любви, принесшее ей спасение и силы бороться, росло в любви, подавало разнообразные надежды и само по себе было словно чудесным олицетворением любви, надежды и воли к жизни. Только они оба знали, что привело его на свет, из каких страшных событий родилась в Войцехе внезапная, спасительная решимость на это, и поклялись умереть с этим.
Так вот – всегда надо надеяться и верить. И бороться, до последнего. Это не значит, что борьбе обязательно суждено увенчаться победой над судьбой и обстоятельствами. Человеку, его воле и усилиям, борьбе и надеждам, в большинстве случаев, увы, предначертано быть размолотыми в жерновах судьбы, погибнуть в ее власти и прихотях, в водовороте насылаемых ею испытаний и событий, это так… Однако, если всё же есть возможности и надежды, то привести к ним может только длящаяся до последнего борьба… И даже проиграв, человек будет погибать и пропадать во власти судьбы с чистой совестью, достоинством и покоем, ибо будет знать наверняка – он сделал всё, что было в его силах…
Еще в 1951 году Войцех прочтет об успехах американцев в разработке и применении металлических суставов. Это всколыхнет в нем некогда бывшие мысли и мечты о руках Магдалены, о хоть какой-то возможности для нее вернуться к живой музыке. Он в особенности много будет думать об этом, слыша занятия жены со студентами-солистами. Он будет видеть бурлящий, пылающий в ней темперамент пианистки, который не находит выхода и разрывает ее. Он будет понимать и чувствовать, как трагически тяжело ей жить внутри музыки, думать и мысленно говорить музыкой, и не мочь при этом рождать руками живую музыкальную речь. Он будет чувствовать в этом трагедию любимой женщины, и мысли о прочтенной в научном журнале статье, станут его частыми гостями. На следующий год он услышит, что итальянским врачам, в сотрудничестве с американцами, удалось провести несколько очень сложных и удачных операций по замене бедренного сустава у раненных солдат. Это вдохновит Войцеха и подвигнет его на конкретные дела. Они спланируют отпуск в Риме. Что может быть чудеснее лета в Риме? Наверное – только возможность жить там, проводить в этом городе и все остальные времена года… Войцех был в Риме неделю, один раз, в 1931 году… Он помнил Рим Муссолини, при всей пугающей экзальтированности публичных митингов и собраний, уже тогда ощущавшейся осоловелости в настроениях людей – город, с первых вдохов и взглядов, навсегда завоевывающий сердце человека… Он помнил, что вынес из этой поездки бесконечность не просто впечатлений, но чисто философских прозрений и идей, определивших ход его мысли впоследствии, а кроме того – увлечение живописью. И конечно – идея поездки в Рим буквально унесла на крыльях небольшую семью Житковски. В Риме, подождав несколько дней, он заставил Магдалену просто пойти к известным врачам и проконсультироваться… уговорами, «мытьем и катаньем» – но всё же заставил. Почему нет, собственно – что терять? Несколько раз «синьоре Магдалене» было подробно объяснено, что есть возможность сделать ей две операции – выправить неправильно сросшуюся после пыток и избиений ключицу и заменить раздробленный плечевой сустав на качественный американский протез. Операции будут тяжелыми и потребуется присутствие «синьоры» в Италии не менее полутора месяцев. Рука «синьоры» должна будет вернуться к полноценному функционированию, в плане бытовых дел она почувствует себя гораздо свободнее, почти обычно, что же до игры на фортепиано – конечно, этого никто не сможет сказать и говоря откровенно, навряд ли… Впервые, наверное, за всю историю их совместной жизни, если не считать страшных минут в амбаре у Божика, Магдалена устроит ему истерику… Она будет бесноваться битый час, он окажется вынужден из-за этого увести ее в дальние закутки Виллы Боргезе. Она будет кричать ему, что он – проклятие ее жизни и только ее жизнь начала как-то налаживаться, как он снова пытается ввергнуть ее в авантюру, которая ее скорее всего погубит. Войцех будет слушать, всматриваться в жену… поймет, что как и всякий человек, она боится перемен и утраты привычной почвы под ногами, устойчивых и сложившихся обстоятельств… а еще более – своего излечения и факта, что помимо всего остального, ей предстоит после этого работать еще и над руками, поверх сомнений и страхов возвращаться к исполнению, к живой музыке. Ведь трясущаяся над игрой студентов и почувствовавшая, что снова хоть как-то, но сможет играть, Магдалена конечно не устоит перед соблазном положить на клавиши уже две руки и обеими руками пробежать по ним… Страшным было то, что всё могло кончиться разочарованием. Операция действительно могла не возродить ее руки для игры, что при вернувшихся и всколыхнувшихся надеждах, могло стать конечно же катастрофой, сломом. И он понимал, что этого его несчастная, изувеченная судьбой девочка, боится более всего. И как уже несколько раз было в их судьбе, он спокойно и сильно придвинул ее к себе, долго целовал ее лицо и волосы, а потом спокойным и не допускающим возражений тоном сказал – ты пойдешь в конце недели на операцию, точка.
Всё лето семья Житковски провела в Риме. Магдалена выходила из двух попеременно сделанных операций тяжело, мучилась страшными болями. Лишь уже в самом конце лета, когда Магдалена более-менее пришла в себя, они втроем стали много гулять по Риму, Войцех показывал жене и сыну Рим Караваджо и Рубенса, Рафаэля и Гвидо Рени… устраивал им под полотнами великих художников целые лекции, ощущал себя совсем молодым и сделавшим что-то очень важное. Вернулась семья Житковски в Женеву практически счастливой. А дальше…
Дальше, ближе к ноябрю, в одно из воскресений, Магдалена надела на лицо самое зверское из тех выражений, на которые была способна, произнесла сакраментально «пусть только кто-то попробует зайти», заперлась в гостиной и полтора часа играла простые гаммы и пассажи. Все эти полтора часа Войцех простоял на цыпочках и не дыша под дверью, и был поражен. Ее правая рука, которую она не могла как следует даже поднять и подвинуть, окрепла после операции в чисто бытовых делах и пальцы выводили пассажи конечно не слишком бегло, но как-то очень уверенно. И эта уверенность выливающихся из под рук Магдалены звуков, показалась ему признаком надежды. Ведь он, старый авантюрист, конечно же дрожал все эти месяцы, что из его затеи ничего не выйдет, и был готов встретить и пережить дальнейшее. А тут – он даже чуть расплакался по середине, слыша, что руки Магдалены идут не бегло, но ровно и слаженно. Выхода жены он ждал на кухне. Завидев открывающуюся дверь гостиной, хотел было подскочить к Магдалене, рассказать о своих ощущениях, поцеловать ей руки, но отказался, ибо услышал веское и угрожающее – «попробуй только сказать хоть слово».
«Занятия мамы» не просто вошли в привычный ход жизни маленькой семьи Житковски. Они стали регулярными. Сорока однолетняя Магдалена трудилась над собой так, будто и до сих пор была исключительно одаренной, подающей огромные надежды студенткой, которая знает наверняка одно – надо работать. Любовь к музыке, к жизни и творчеству, к еще быть может таящимся в жизни возможностям, пересилила и страх, и немощь, и расцветшую с годами неуверенность в себе, да поди еще знай, что другое. Эти занятия стали чем-то исключительно важным и значимым для Войцеха. Да, поначалу шло тяжело. Очень трудно было вернуть не то что былую, а хоть какую-то приемлемую беглость пальцев, несколько раз всё кончалось слезами, истерикой и криками «ничего не выйдет!» и «зачем ты втравил меня в это?» Однако – очень скоро повод для истерик ушел. Сказались бывший, некогда состоявшийся и серьезный опыт, память мышц и рефлексов и черт его знает, что еще, да только Магдалена заиграла… О боже, она заиграла и еще как заиграла!.. Войцех и сам не мог себе поверить, ведь думал по большей мере просто о возможности рождать живую музыку и находить утешение, мысли о серьезном редко просачивались к нему сквозь горький опыт жизни. Магдалена стала возрождать репертуар, брать сложные вещи. Уже к весне она местами даже великолепно играла «Аппасионату». Сжигавший ее все эти годы темперамент наконец-то нашел выход и вернулся в ее исполнение, и руки, ее несчастные и изувеченные руки, вновь позволяли ей это! Войцех был потрясен. Ко всегда бывшей в ее игре глубине мысли и чувства, прибавилась та глубина трактовки, которую, увы, человек может приобрести только с возрастом, с пережитыми страданиями, обретя глубину собственного понимания мира и богатый опыт чувств, зачастую – очень страшных и трагических. И теперь, когда он слышал «четыре звука», предшествующих кульминации в первой части «Аппассионаты», еще не было раза, чтобы он не содрогнулся и у него не пробежали мурашки по коже, потому что ему казалось – вновь встали страшные годы войны, и холодом ужаса и тревоги проступает на контурах неведомого судьба. И содрогался от следующих за этим аккордов, поражался силе, которая вернулась в ее руки и позволяла выплеснуть глубину и экстаз переживания музыки, исповеди музыкой. И не мог поверить, что ее, еще год назад немощные пальцы правой руки, могли удержать страшный своей силой, страстью и быстротой бег финального марша, в котором была схватка насмерть, отчаянная борьба до последнего. Он глядел на словно вернувшуюся в ее двадцать восемь, конечно же гениальную жену, не стеснялся слез и понимал, что ему, в отличие от очень многих, довелось наблюдать собственными глазами победу борьбы и творчества, смысла и любви к жизни, того нравственного начала, которое единственно делает человека человеком и способным творить. Он, хоть и по прежнему вдохновенный, глубокий и яростный в мысли, но уже стареющий, часто не чувствующих прежних сил, снимал шляпу перед своей вновь помолодевшей и по настоящему возродившейся к жизни и творчеству женой. Он преклонялся перед ней, перед ее способностью на труд и бурлящей в ней, несмотря на годы, любовью к жизни и творчеству, ее кажется неизбывной нравственной и творческой силой, вновь вздыбившейся в ней, стоило только найти для той русло. Он с ужасом представлял себе, что мог тогда вернуться и войти в амбар на четверть часа позже… И то чудо женщины и творческой личности, таланта и любви, которое предстояло его глазам сейчас, было бы уже не возможно. Он видел, что Магдалена возвращается прежде всего к уверенности в своей способности играть, переполняется так знакомой ему силой души и духа, той кажется безграничной нравственной силой любви и созидательности, которая есть суть гениальности человека. Чем далее – тем более он понимал и убеждался, что сделал его любовью и близостью одно из главных дел своей жизни: спас и возродил ее, дал ей вернуться к самой себе, к полноте возможностей. У нее точно еще очень многое теперь было впереди. В один из дней она крикнула ему и сыну, чтобы они зашли и сели возле рояля. Сама она ждала их. Присобралась, что-то сказала себе в мыслях, наверное, а потом… потом прекрасный швейцарский рояль полил звуки «Революционного этюда»… Страшные и страстные, полные отчаяния и борьбы, надрывной муки и готовности умереть, если такова будет судьба, но сражаться – до последнего и с достоинством. Она играла шопеновский этюд блестяще, наверное – еще даже лучше, чем в тот страшный, ставший для нее роковым вечер, и это было понятно, ибо с тех пор она пережила и прошла то, что редко кто способен осилить, и звуки этюда отзывались в ней еще более глубоко и могуче. Она должна была сыграть эту вещь. Должна была выбросить из себя весь, трагически связанный с ней ад мук, судьбы и событий. И делала это вдохновенно – крича музыкой, плача музыкой, думая и исповедуясь ею, сводя ее звуками счеты судьбой, торжествуя ими над судьбой, сделавшей всё, чтобы погубить пианистку Магдалену Збигневску, уроженку Кракова, гордую и некогда прекрасную польку. Судьба – какова есть, она и Войцех пережили то, что было отпущено им, наверное не могло минуть их и быть избегнутым, главным же было бороться и попытаться победить. И ничем она сейчас не могла поговорить об этом более полно и глубоко, нежели звуками «Революционного этюда». И она говорила – вдохновенно, дыша мыслью и страстью исполнения, сверкая местами похожей на былую виртуозностью. А вынув из клавиш последний звук, упала на грудь мужу и не стесняясь ни его, ни сына, горько разрыдалась. И с этим плачем ее и Войцеха судьбу уже навсегда покидали бывшие муки, пережитый ими вместе и по отдельности ад…
Магдалена была Магдаленой. Первый ее публичный концерт состоялся только через год, в мае 54. Она требовала от себя максимально возможного совершенства и добивалась того беспощадным, казалось подчас, трудом. Любовь, труд и нравственная мощь личности, та безграничная воля к творчеству и труду над собой, которая черпает свои истоки в силе любви, побеждали страх, многие годы немощи, калечившие, но так и не сумевшие погубить эту женщину лабиринты отчаяния и несчастий. Магдалена играла, жила музыкой, говорила и исповедовалась музыкой, обличала и пророчествовала звуками музыки, которые ее рукам от раза к разу удавалось извлечь из клавиш и вдохновенно отзывающегося рояля всё более совершенно. Она словно забывала о своем еще недавнем прошлом ограниченного, кажется – погубленного и надломленного в возможностях человека. И вместе со всем этим – наливалась прежней, небывалой силой и энергией, которой всегда начинает дышать человек, жизнь которого становится экстазом и горением творчества. И поди знай, чего больше в этой заполняющей, поднимающей, уносящей человека силе и энергии – созидающей воли, горящей в человеке и сжигающей его, словно не чувствующей на своем пути преград, торжества любви, борьбы за смысл и веры в жизнь, или нравственного величия труда и жертвы, которые делают возможными смысл и творчество. Консерватория, в малом зале которой состоялся первый концерт Магдалены, была потрясена. Все эти годы Магдалену уважали и подчас трепетно, зная ее судьбу любили, ныне же – видя удивительный, кажется безвозвратно погибший, но силой надежды и веры, мужеством борьбы, трудом и любовью возрожденный талант, таинство несломимой в ее сути и нравственном начале человеческой личности, к ней стали испытывать некое подобие поклонения. Страшный, трагический опыт довелось пережить этой необыкновенной женщине, и ее игра была не просто по прежнему полна силой чувства, глубиной понимания и переживания музыки… В ее игру пришли философизм и по истине таинственная способность превращать звуки музыки в язык сокровеннейших личностных переживаний, исповеди о «последнем» и затрагивающих кажется самую суть вещей мыслей, путь к которым лежит только через ад страданий и опыта, трагизм и подлинность отпущенных судьбой испытаний, принимавшихся человеком решений… О чуде возрождения удивительного таланта вскоре говорила уже вся музыкальная Женева. Концерты Магдалены стали частым и ожидаемым событием. Она вновь безгранично верила в себя и свой талант, пусть со страхом и дрожью, но решалась ставить перед собой всё новые и новые, казавшиеся откровенно дерзкими задачи. В 1956 году, в зале «Виктория», состоялось выступление Магдалены, в котором она впервые за пятнадцать лет вновь исполняла фортепианный концерт. Магдалена выбрала первый концерт Чайковского… От этого ее отговаривал даже Войцех. Он умолял ее взять третий концерт Рахманинова, полный спокойной, глубокой и лиричной мудрости, представлявший гораздо меньше опасностей и таивший в себе не так много подводных камней, о которые можно разбиться. Она же сама знает – расходящиеся руки, которые так раздражали и возмущали Николая Рубинштейна, впервые исполнившего этот концерт и свидетельствовавшего его созданию. Да разве только это! «Магда, родная! Этот концерт требует сжечь себя на алтаре исключительно мощных, выраженных в нем чувств. Он требует колоссальной физической силы, ты можешь сорваться и послушай меня – не торопись. Возьми что-то более безобидное, способное вызвать не меньший восторг виртуозностью и вкусом исполнения, а это – еще успеешь, вот поверь!» Он повторял это неоднократно, но ничего не помогало. «Ты увидишь что я достойна быть твоей женой, достойна сама себя, достойна прожитых лет!» – это или подобное раздавалось в ответ и она продолжала работать, горела работой. Он замирал возле гостиной, когда Магдалена, запершись, репетировала там, используя каждую выдавшуюся минуту, тщательно вслушивался в каждый звук, видел мысленно движения и бег ее рук. Иногда – тайком приходил в консерваторию и стоял под дверью класса, в котором она занималась бывало до глубокого вечера, желая в полном уединении поработать над наиболее сложными местами. Не мог не признать, что она играет концерт блестяще. С содроганием представлял, как ее руки находят силы и крепость извлекать из рояля знаменитые на весь мир, могучие аккорды… Эти аккорды, саму их идею, Чайковский взял из великолепного фортепианного концерта своего учителя, великого Антона Рубинштейна… Только в его концерте, из просто удачной музыкальной идеи, они превратились в символ торжествующей воли, борьбы и веры в жизнь – такой же, каким после предстает слуху и восприятию и главная, открывающая концерт тема. Она играла прекрасно, но он дрожал до самого дня премьеры. Дрожал и в те минуты, когда прощался с ней перед началом и уходил занять свое место в зрительском зале. Дрожала и она. И играла на глазах завороженного, потрясенного зала блестяще – до последней глубины души и ума зная, о чем написана улетающая в зал музыка. Она конечно не зря выбрала именно этот концерт – ей было что сказать этими звуками, как никто иной, она глубоко и мудро чувствовала их смысл. Вера в жизнь, а не бездумное и наивное упоение ею, та вера, которой ведом весь трагизм жизни, но которая движима при этом сознанием подлинных и безграничных, таящихся в жизни возможностей и надежд, и словно обнажает их горизонты, зовет к ним, требует быть в отношении к ним ответственным – вот, что было в этой музыке. В той были любовь, торжествующая вопреки всему, экстаз творчества и свершений, которые делают возможными любовь и ее подчас сжигающий, целиком приносящий человека в жертву огонь. Чудо и таинство жизни как творчества, как поля свершений, которым суждено победить смерть и остаться в вечности, подарить человеку смысл и благословить, прославить его имя, трепет перед бесконечной, неохватной умом ценностью жизни – образом этого была музыка концерта. Вера в жизнь и ее смысл, в чудо и бесконечность таящихся в ней возможностей, экстаз творчества и любви – этим были полны изумительные, навсегда вошедшие в сокровищницу духа звуки, в них не было ни тени того ада, которым так часто бывают мир и жизнь человека. Русский композитор Чайковский сумел выразить сонм этих мыслей и чувств с удивительной поэтичностью и вдохновенностью, с проникновенной и могучей убедительностью, сочетая язык классического романтизма и глубокое ощущение возможностей народной музыки, и из игры Магдалены казалось, что покойный композитор, друг Листа, братьев Рубинштейнов и непревзойденной Софи Месснер, писал этот концерт специально для нее… Руки Магдалены виртуозно и проникновенно лили звуки, могуче вынимали те из рояля, великолепный оркестр подхватывал и приумножал их, и вложенные в них мысли и чувства были совершенно ясны, проникали, казалось, до самой глубины ума и души почти каждого, кто сидел в зале. И в тот момент, когда оркестр и солистка заиграли кодовую тему и идея торжества веры, творчества и любви, понеслась в зал с пророческой ясностью и силой, Войцех не выдержал и зарыдал… Вскочил, и вместе с огромным залом заревел «браво», расстворился в шквале кажется пошатнувших зал криков и оваций. Зал, с трудом соблюдавший приличия и сдерживавший бурю чувств и эмоций во время исполнения, сполна воздал солистке в конце. Овации не утихали, уже никто не мог счесть количества раз, которые Магдалену вызывали на поклон. Перед Войцехом воочию была истинная победа любви, труда и надежды, победа его удивительной, гениальной прежде всего ее личностью и нравственной силой жены, и конечно – в какой-то мере и его личная победа…
Вместе со всем этим Магдалена, уже должная начать стареть женщина, стала полна отблеском свой былой королевской красоты и вновь издалека привлекала взгляды и внимание почти каждого… Собственно, эта ее красота никуда не исчезала и все годы, как былое и память, как то, что попыталась погубить судьба, читалась из под ее изувеченного облика. После перенесенных операций она вернула себе не просто полноценную работу правой руки – распрямилась ее спина и былое, величавое и прекрасное благородство, вернулось постепенно в ее осанку и походку. Вернулась и память об удивительном, разящем достоинстве прекрасной женщины, знающей о своей красоте и тяготящейся ею, жаждущей быть узнанной и разделенной как личность, видящей в себе нечто гораздо более значимое и ценное, нежели и вправду небывалая, живописная красота. Однако – она «распрямилась» в первую очередь нравственно, в том смысле, что словно окончательно воспряла от пережитых, случившихся в ее судьбе трагических невзгод, от их груза, запечатленного на ее теле и словно тяжелым камнем придавливавшего ее все эти годы… Распрямилась, ибо вновь ощутила себя горящей талантом и творчеством, способной свершать нечто удивительное, трудом и борьбой, волей и верой преодолевать кажется необоримые препятствия, стала окончательно верить в себя, в свои возможности, в еще таящую таковые жизнь. Да, почти половину ее лица по прежнему покрывали уродливые, содрогающие взгляд, при более глубоком знакомстве – вызывающие сострадание к перенесенным ею мукам шрамы… Однако теперь, еще более, чем обычно, она светилась красотой сути, красотой своей человеческой личности, горящей творчеством, трудом и любовью, свершениями и могучими нравственными побуждениями… говоря иначе – той подлинной красотой сути и образа человека, которую еще надо быть нравственно способным воспринять и различить. Ведь как редко мы бываем способны осознать и различить, прояснить для себя суть человека, прожить ее и стать ей сопричастными, и испытать в этом подлинно личностное и нравственное отношение к нему, каково бы оно ни было! Ведь любой человек подлинно красив или отвратителен, любим или ненавистен его сутью, которую еще необходимо быть способным осознать и прожить, различить и воспринять, во всей честности и правде нравственно ответственного, личностного отношения к нему! Ведь вдумаемся и признаем, что любой человек красив его нравственной и созидающей личностью, его свободой, и прекрасным в нем может быть даже то наиболее страшное, трагическое и уродливое – ад отчаяния, мука борений и падений, что по странной задумке и загадке неотделимо от личностного и созидательного в нем! Человек может быть красив страданием там, где по роковой загадке его человечности, личности и свободы, обязан страдать и мучиться, и не имеет право на удовлетворенность и покой, на химеру даруемого слепотой счастья! Он может быть уродлив своей скотской удовлетворенностью, но прекрасен страданием, теми муками и борениями, на которые его обрекают свобода и личность, разум и совесть, подлинная любовь к жизни! Он может быть глубоко отвратителен своей обывательской обычностью и безликостью, и прекрасен теми творческими поисками и свершениями, путь к которым лежит через муку и борьбу, жертвы и ад испытаний! Однако – красота и сила личности, красота таланта и творчества, будут так сверкать в вернувшейся к исполнению Магдалене, что не воспринять их и не увлечься ими, окажется способен наверное только слепой, но и того конечном итоге потрясла бы ее игра… Так или иначе, но в ее сорок пять Магдалена вновь была прекрасна – ее сутью, ее человеческой личностью, с каким-то разрывающим экстазом, разносторонне раскрывающей и утверждающей себя, горящей в ней творческой и нравственной силой, способностью на кажущиеся таинственными, чудесными свершения…