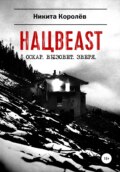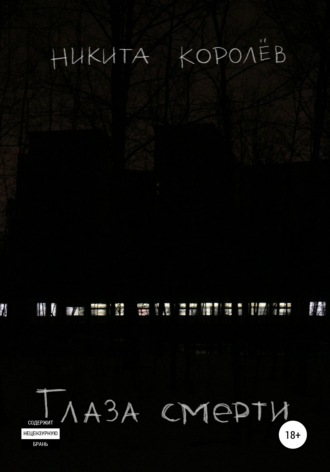
Никита Королёв
Глаза смерти
Мама нашла два варианта, где можно кремировать Пусино тело: в ветклинике на улице Клары Цеткин рядом с метро «Войковская» или на улице Народного ополчения на «Октябрьском Поле». Поскольку я всей душой люблю Октябрьское Поле, я выбрал второй вариант. Мама позвонила в эту клинику и предупредила о нашем приходе.
Идя от станции «Панфиловская» к автобусной остановке, мы говорили. О том, достаточно ли сделали для Пуси и нужно ли было до последнего поддерживать в ней жизнь. Конечно, мы успокаивали себя, говоря, что сделали многое, что четырнадцать лет для кошки – это действительно возраст. После мрачного, усталого молчания мы чувствовали облегчение и радостно делились им друг с другом. Вонючие бесприютные вагоны электрички остались позади, и теперь на Пусин последний путь мягко падали пушистые снежинки.
На остановке сильно поддатая пара подсказала нам номера нужных автобусов, мы сели в один из них и поехали мимо моих любимых мест. Мама рассказывала, как мой покойный папа, приходя с работы, шёл гулять с нашей покойной собакой по имени Палкан. Мама не могла понять, почему это папа так рвётся поскорее идти с Палканом, а потом узнала, что во дворе он звонил своим «блядям». Но говорила она мне это смеясь и даже не истерически, а по-настоящему, искренне. Я помнил, как летел с вытянутой вперёд ногой на папу, когда он стоял на пороге нашей квартиры, ухмыляющийся, пришедший всё рушить, и как рыдал, прижимаясь к маминой куртке, когда мы спускались на лифте к нему, лежавшему у велопарковки под нашими окнами. Я помнил, как бил, пинал коленками Палкана, когда он оставлял лужи в проёме между кухней и прихожей, и как рыдал, когда его, уже старого, ослепшего, усыпляли. Я помнил это всё и думал о том, что, возможно, мы перестаём горевать о близких только лишь потому, что сами, незаметно для самих себя, умираем. Этим умиранием, растянутым на всю нашу жизнь, и обусловлено то, что мы едва узнаём себя на детских фотографиях, а наутро не понимаем, стыдимся себя вчерашних – смелых, искренних. И сейчас, видя мамину улыбку, я понимал, что жена в ней уже давно умерла – осталась только мать, моя мать.
Выйдя из электробуса, мы ещё немного поплутали перед тем, как нашли дверь в торце 29-го дома, ведущую в подвал. Это был какой-то подземный торговый ряд, а в его конце – ветклиника, оформленная в зелёных цветах.
Из дверей кабинета напротив входа выходила молодая пара с большим, песочного цвета, котом. Я сначала подумал, что он дворовый, но, увидев его изумрудные глаза, понял, что ошибся. За стойку вернулся дежурный, молодой парень, кажется, ненамного старше меня; мама сказала, что мы привезли кошку на кремацию, и он куда-то ушёл. Мама поставила контейнер перед диваном в углу, открыла его, понемногу, с разных концов, стала приподнимать пелёнку, а затем стянула её всю. Я увидел Пусю, впервые за полгода и в последний раз. Она лежала, скрестив передние и задние лапы, как будто потягиваясь. Я притронулся к ней – она была холодной, как улица наверху, и твёрдой, как сплошной синяк. Даже уши были твёрдыми. Под спутанной шерстью ничего, кроме костей, не нащупывалось, словно её наскоро прилепили на клей к скелету. Я вспомнил, как, сидя на тёплом кафельном полу в туалете, точно так же с игривой небрежностью водил рукой по роскошной Пусиной шерсти, и заплакал. Беззвучно, прикрывая лицо маской и обтирая слёзы перчаткой. Заплакал, потому что в голове понеслись все эти бесконечные «никогда». Заплакал, потому что увидел смерть своего детства. Заплакал потому что и Пусино гнусавое мяуканье, и загаженный лоток, и ночные забеги по квартире – всё было прекрасно в закатных лучах. Мама тоже плакала, надломленным голосом сообщая ветеринару необходимые сведения.
Мы прошли в кабинет, сняли крышку контейнера. На шерсти у Пуси были коричневые следы – под конец она уже не вставала и ходила в туалет под себя. От впалых глаз к носу тянулись кровяные разводы. Мама спросила о них ветеринара, и он приподнял Пусину голову, чтобы получше их разглядеть. Эти движения были почти живыми, словно она сама приподняла голову, как бы пробуждаясь от долгого сна. Но разноцветные, голубой и жёлтый, глаза были мёртвыми – в одном из них стоял маленький пузырик воздуха. Увидев её смятую, как будто вымокшую мордочку, я вспомнил, как лепил из неё разные рожицы, и снова заплакал. Ветеринар, взглянув на разводы под её глазами, сказал, что это выделения, вызванные интоксикацией. Мама дала ему результаты последних анализов и постаралась выведать у него всё, что можно, но он отвечал немногословно, ссылаясь на недостаток данных. То ли он был очень уставшим, то ли просто ещё не опытным, но объяснялся он как на экзамене, как бы ещё пробуя на вкус свои знания, растягивая слова и активно жестикулируя.
Настал момент прощания. Мама гладила Пусю как живую и говорила: «Прощай, Пусёна, какая хорошая кошечка была». Она знала нужные слова, простые, настоящие, пронизывающие, о каких я даже подумать не мог. И я повторял их про себя и плакал, гладя в последний раз нашу Пусю.
Расплатившись и поднявшись наверх, мы пошли к остановке на той стороне дороги, сели на автобус и поехали в наше любимое вьетнамское кафе рядом с домом. В автобусе мама нашла фотографию, где Пуся лежала в кресле в прихожей, на куче плюшевых игрушек, и сама среди них казалась игрушечной. Вообще-то, она и вправду была игрушкой. Доброй ласковой игрушкой с разноцветными глазами. Она прожила долгую жизнь, слишком долгую, и, к сожалению, дети переросли её; в их жизни появилась любовь, их стали занимать важные вопросы, серьёзные дела, и они совсем про неё забыли. И вот она, как того все уже давно хотели, ушла. Осталась только боль, хотя никто её не ждал. Но, может, хоть она будет жить в нас как напоминание об умершем члене нашей семьи? Увы, уйдёт и она.