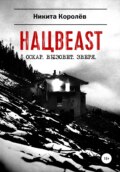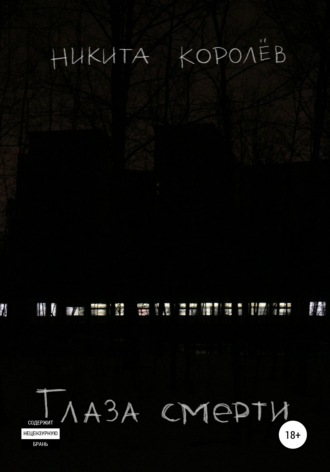
Никита Королёв
Глаза смерти
Электричка подходила через одиннадцать минут. Я предложил подождать на станции, в тепле, но мама, увидев железный мост, ведущий на ту сторону платформы, прикинула, сколько она будет по нему идти, и сказала: «Лучше там уже подождём, воздухом подышим».
Идя по мосту, я увидел обтянутые железной сеткой прямоугольные рамы, возвышающиеся над перилами, а за ними внизу – контактные провода. Падать с высоты семи-восьми метров? – пожалуйста. Но только не на контактные провода. Может, эти сетки защищали поезда от отчаянных зацеперов. А может, зацеперов – от быстрой, но хлопотной для железнодорожников смерти.
Когда мы спускались по лестнице, мама сказала, что Галя всегда очень боялась этих «прозрачных» (она почему-то их так назвала) мостов. Я не называю её бабушкой, потому что она очень нас любила и сделала всё, чтобы её смерть не стала ни для кого горем. Я подумал, что тоже когда-нибудь буду говорить о маме, вот об этой женщине, которая сейчас идёт рядом со мной, в прошедшем времени. Смерть провела боком своей ледяной иголки по моему сердцу.
Мы спустились с моста, и мама закурила. Когда она разгрызала капсулы с ароматизаторами, мне захотелось её ударить. Потому что, в гормональном угаре одолжив меня вместе с папой у смерти, привязав к себе, на моих глазах она разгрызала ампулы с цианистым калием – только не сразу, а, как это сейчас принято, в очень долгую рассрочку. Я проклинал её, проклинал жидомасонов, превративших мир в газовую камеру под открытым небом, где у каждого маленького человечка вроде моей мамы между пальцев – свой личный ингалятор с «Циклоном Б». Затем моя ярость перекинулась на мусорное ведро, стоявшее в стороне, но я подумал, что, начни я его колошматить, быстро опротивею сам себе и только зря расстрою маму. Подошла электричка, и мы сели.
На груди у меня болтались наушники, но слушать музыку совсем не хотелось. Я легко мог впасть в лихорадочную чувственность и, представив её, заранее от неё устал. Сев на скамью напротив мамы, я стал искать в телефоне рассказ моего однокурсника Миши, который назывался «Звон». Он о похоронах отца и, судя по тому, что герой – тезка автора, автобиографический.
Прочитав, я захотел ему написать что-то типа: «Привет. Не знаю, что за херню я тогда написал в своей рецензии, но хочу сказать, что понял, о чём твой рассказ "Звон"». Но мной овладели сомнения. Во-первых, я никогда раньше не писал Мише. Во-вторых, было нечто кощунственное в том, чтобы сравнивать смерть отца и смерть кошки. В-третьих, весь этот возможный разговор – бессовестное склонение к лирике и откровенностям, которые Мише сейчас могут быть очень некстати. В итоге я оставил эту затею и, достав из рюкзака книгу «Невыносимая лёгкость бытия», взялся за неё. Почти сразу перед глазами заскользили строчки:
«По старой привычке ей захотелось для успокоения прогуляться по кладбищу. Ближайшим было Монпарнасское кладбище. Оно всё состояло из хрупких домишек – миниатюрных часовенок, возведённых над каждой могилой. Сабина понять не могла, почему мёртвым хочется иметь над собой эту имитацию дворцов. Кладбище, по сути, было тщеславием, обращенным в камень. Вместо того чтобы после смерти стать разумнее, его обитатели оказывались ещё более безрассудными, чем при жизни. На памятниках они демонстрировали свою значимость…»
И так далее.
Юнг назвал бы это синхронностью. Но прошло то время, когда он копался в чужих головах, и даже то, когда черви копались в его. В этот час у меня не было никаких сомнений в том, что это ничто иное, как вездесущность смерти. Я посмотрел на пустые, обтянутые дермантином скамейки, а потом – в окно. За ним, в кромешной темноте, мелькали огни встречной электрички. Череда тусклых скруглённых прямоугольников, напоминавшая киноленту какого-то старого, всеми забытого фильма. Переведя взгляд, я увидел, что и у нас точно такие же окна и что мы – такое же кино, показываемое неизвестно кому в этой бесконечной черноте.
Только на подъезде к станции «Ростокино» я вновь вспомнил о мёртвой Пусе, лежащей в контейнере под скамейкой, и на ум мне пришли строчки, которые я написал о ней ещё два года назад. Наскоро подправив, я зачитал их маме:
«Как безнадёжно мало помнят
Твои иссохшие глаза,
Лета страдания и боли
В них утонули навсегда»
И так далее. Дочитав, я метнул взгляд на мамины глаза, ожидая увидеть в них слезы, но она, похоже, даже не поняла, о ком это стихотворение. «Какие всё-таки ужасные стихи я писал» – подумал я, но отвращение к себе быстро утонуло в горе.
Сойдя с электрички, мы сделали пересадку на МЦК. Стоя на платформе, за спиной я услышал какие-то возгласы. Мужчина, всплёскивая руками, что-то кричал девушке, идущей перед ним. «Сумасшедший или пьяный» – подумал я, как невольно думаю обо всех, кто в общественных местах ведёт себя чуть живее, чем следует несчастному, вечно невыспавшемуся обитателю города. Они прошли мимо нас, и мужчина сказал своей спутнице: «Не торопись, кто понял жизнь, тот не спешит». И мне почему-то подумалось: «Жизнь – это поэзия, просто нужно видеть рифмы в конце строк».
В «Ласточке», несмотря на поздний час, было достаточно людно, но мы всё равно нашли, где приткнуться с нашим почти пустым контейнером.