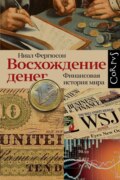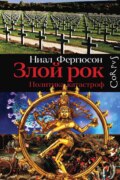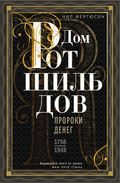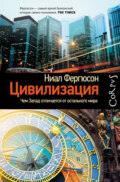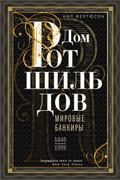Ниал (Нил) Фергюсон
Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook
Глава 18
Обмен идеями
Пока одни убивали себе подобных, другие учились. Несмотря на потрясения, вызванные Реформацией (отголоски которых еще в 1745 году привели к восстанию в защиту свергнутой католической династии Стюартов в Шотландии), для европейской интеллектуальной истории в XVII и XVIII веках была характерна последовательность различных волн инноваций, распространявшихся через сети. Важнейшими в череде этих волн оказались научная революция и Просвещение. В обоих случаях обмен новыми идеями внутри сетей ученых способствовал заметному прогрессу в области естественных наук и философии. Как и в случае печатного дела, в распространении наук можно проследить определенные географические закономерности, исходя из биографических данных отдельных ученых. В XVI веке главным узловым центром научной сети являлась Падуя, а вокруг нее группировались другие университетские города Италии. От этого кластера тянулись ниточки к девяти другим крупным городам Южной Европы, а также к далеким Оксфорду, Кембриджу и Лондону. Два германских узла, Виттенберг и Йена, были связаны только друг с другом. В течение XVII века к Падуе присоединились четыре других крупных центра научной деятельности: Лондон, Лейден, Париж и Йена. Одним из нескольких новых узлов на географической периферии стал Копенгаген[321].
Сети переписки позволяют нам лучше понять эволюцию научной революции. Французский астроном и математик Исмаэль Буйо интересовался еще и историей, богословием и античностью. Его корреспонденция была обширна: с 1632 по 1693 год он написал 4200 писем, не считая еще 800 писем к нему и от него, которые не вошли в Collection Boulliau. Широка была и география его общения: его корреспонденты жили не только во Франции, но и в Голландии, Италии, Польше, Скандинавии и на Ближнем Востоке[322]. Сопоставимой по размаху была переписка Генри Ольденбурга, первого секретаря Королевского общества: между 1641 и 1677 годами он написал или получил 3100 писем. Не считая самой Англии, сеть Ольденбурга охватывала Францию, Голландию, Италию, Ближний Восток и ряд английских колоний[323]. Следует отметить, что в количественном отношении здесь не было ничего нового. Важнейшие фигуры эпохи Возрождения оставили после себя не меньшее количество писем: от Эразма Роттердамского сохранилось больше трех тысяч, от Лютера и Кальвина – по четыре с лишним тысячи, от Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса (иезуитского ордена), – больше шести тысяч писем. А некоторые купцы или аристократы вели гораздо более обширную переписку[324]. Новизна заключалась в том, что с появлением таких учреждений, как Королевское общество, научная корреспонденция начала приобретать характер коллективного достижения.
Хорошим примером того, как распространялась по таким сетям наука, является исследование Антони ван Левенгука о лечении подагры: была обнаружена действенность лекарственного средства, впервые замеченного в голландской колонии Батавии (сегодня это часть Индонезии). Отчет Левенгука, составленный для Королевского общества, послужил распространению нового знания не только среди членов Общества, но и далеко за его пределами. Здесь наблюдается классический случай слабых связей: переписка велась и с людьми, не входившими в Общество, а именно с группой интеллектуалов, сформировавшейся в самом Лондоне и вокруг него[325]. В хартии, дарованной Королевскому обществу, открыто говорилось, что президенту, совету и членам общества, а также их преемникам предоставляется свобода “взаимно обмениваться сведениями и знаниями со всеми незнакомцами и иностранцами, будь то частные лица или представители корпоративных, университетских, политических или иных организаций, не терпя при этом никаких притеснений, вмешательства или иных помех” (Курсив мой. – Н. Ф.)[326]. Оговаривалось единственное условие: обмен знаниями должен происходить во благо и в интересах Общества. Начиная с Ольденбурга, череда секретарей играла важную роль (пускай и с неодинаковым успехом) в заведовании обширной корреспонденцией Общества. При Эдмунде Галлее часто накапливались непрочитанные входящие письма (в том числе от Левенгука), но при его преемнике, медике Джеймсе Джурине, Общество превратилось в важный узел международной сети серьезных ученых, объединявшей профессионалов в самых разных областях. Это были хирурги и другие врачи, преподаватели, священники и аптекари; четверть из них жила в Европе, а около 5 % в североамериканских колониях. В декабре 1723 года Джурин зачитал свое “Предложение о совместных наблюдениях за погодой”, высказавшись за согласованные метеорологические наблюдения, осуществлять которые будет сеть корреспондентов. Его предпосылка заключалась в том, что “истинную науку о погоде невозможно вывести из знаний о последовательных изменениях в каком‐либо отдельно взятом месте”, для нее “требуется совместная работа множества наблюдателей”[327]. В течение следующих месяцев ему присылали наблюдения метеорологи из Берлина, Лейдена, Неаполя, Бостона, Люневиля, Упсалы и Санкт-Петербурга.
А вот парижская Академия наук поначалу, напротив, оставалась частной собственностью французской короны. Ее первое заседание, состоявшееся 22 декабря 1666 года, проводилось в библиотеке самого короля. Ее официальной политикой была секретность. Все дискуссии и решения проходили в закрытом режиме, посторонние лица на заседания не допускались[328]. Таким образом, члены французской Академии оказались фактически отрезаны от быстро разраставшейся общеевропейской сети ученых, которой предстояло совершить научную революцию. Похожая картина наблюдалась и во многих других странах католической Европы. Не случайно португальских интеллектуалов, которым все же удалось примкнуть к этому обширному научному сообществу, называли на родине estrangeirados – “обыностранившиеся”[329]. Соответственно, благодаря появлению космополитической научной сети родилась и сама теория сетей – а именно работа Эйлера о головоломке с кёнигсберскими мостами (см. Введение). Эйлер, родившийся в Базеле и учившийся там у Иоганна Бернулли, прославился уже в двадцать лет, заняв второе место в организованном парижской Академией наук конкурсе по решению одной задачи. Кёнигсбергскую головоломку он решил, уже работая в Санкт-Петербурге, в Императорской академии наук, а позже, в 1741 году, перебрался в Берлин по приглашению Фридриха Великого. (Однако два великих человека не сошлись характерами, и Эйлер вернулся обратно в Россию.)
Но в XVIII веке людей интересовали не только математические теоремы. К тому времени сети, возникшие благодаря трансатлантической торговле и миграции, росли в геометрической прогрессии, потому что европейские купцы и переселенцы активно пользовались быстрым падением цен на перевозки, доступностью практически бесплатной земли в Северной Америке, а также дешевизной рабского труда в Западной Африке. Атлантическая экономика XVIII века была довольно метко определена как “масштабная торговая сеть, в которой не только все знали всех, но еще и у всех имелись друзья, имевшие друзей”[330]. Только правильнее было бы представлять себе множество взаимосвязанных сетей – с крупными портами в качестве главных узловых центров[331]. Характерен пример шотландских торговцев, которые в XVIII веке начали играть главную роль в виноторговле на Мадейре. К 1768 году треть из сорока трех иностранных торговцев, проживавших на острове, составляли шотландцы, и в их число входили пять из десяти крупнейших экспортеров вина. Хотя некоторые из этих виноторговцев состояли в родстве, большинство контактов внутри сети происходило между “корреспондентами” и “посредниками”. Правда, относительная рыхлость этих связей имела и свои недостатки: так, комитенты сталкивались с обычными трудностями, пытаясь добиться от агентов точного выполнения их распоряжений. Информация текла рекой, но иногда это половодье загрязняли струи пустых сплетен; транзакционные издержки оставались высокими, так как торговцы постоянно тянули одеяло каждый на себя[332]. С другой стороны, эта сеть была динамична и быстро отзывалась на сдвиги рыночного равновесия[333].
Один из выходов состоял в том, чтобы объединить преимущества сети с некоторыми элементами иерархического управления. Теоретически управляющие Ост-Индской компании (ОИК) в Лондоне контролировали значительную часть торговли между Индией и Западной Европой. На деле же, как показывают записи о более 4500 плаваниях торговых судов компании, капитаны кораблей часто и совершали незаконные поездки, отклоняясь от пути, и занимались куплей-продажей самостоятельно[334]. К концу XVIII века количество портов в образовавшейся таким образом торговой сети составляло более сотни: среди них были и открытые торговые города вроде Мадраса, и регулируемые рынки вроде Кантона (Гуанчжоу)[335]. По сути, эта частная торговля создавала слабые связи, которые сцепляли друг с другом в остальном разобщенные региональные кластеры[336]. Эта незаконная сеть жила собственной жизнью, которую лондонские управляющие Ост-Индской компании вообще не контролировали. Это и было одной из главных причин успеха ОИК: она в большей степени являлась сетью, нежели иерархией. Что интересно, ее голландская соперница запрещала своим служащим заключать какие‐либо частные торговые сделки. Возможно, именно поэтому ее в итоге сменила другая организация[337]. Сетевые стратегии торговцев из ОИК не срабатывали только тогда, когда их корабли заходили в подчинявшиеся строгим иерархическим правилам порты вроде Баттикалоа (где торговлю полностью монополизировала сингальская королевская семья)[338]. А когда ОИК отказалась от участия во внутриазиатской торговле и сосредоточилась на торговле между Азией и Европой, плотность созданных ею морских сетей оказалась жизненно важной[339]. Лишь после того, как модель хозяйствования ОИК переключилась с торговли на обложение налогами индийцев, устройство компании сделалось более иерархичным. А ко временам Роберта Клайва[340] ОИК уже приобретала характер колониального правительства, обладавшего изрядным потенциалом ведения войны.

Илл. 13. Торговая сеть Британской Ост-Индской компании, 1620–1824. Торговцы обогащались благодаря инфраструктуре ОИК, а компания обогащалась благодаря способности торговцев создавать сети, соединявшие многочисленные порты.
Для честолюбивой, склонной к риску семьи, какими некогда изобиловал Лоуленд, низинная часть Шотландии, это был мир, полный заманчивых возможностей[341]. Джонстоны происходили из Вестерхолла в Дамфрисшире – графстве, которое Даниэль Дефо назвал “диким гористым краем, где царит мрачное безлюдье”[342]. Из одиннадцати детей Джеймса и Барбары Джонстон, что дожили до зрелого возраста, почти все провели значительную часть жизни за пределами Шотландии. Четверо братьев – Джеймс, Уильям, Джордж и Джон – были в разное время избраны в палату общин; с 1768 по 1805 год в парламент всегда входил хотя бы один Джонстон. Второй сын, Александр, купил на острове Гренада большую плантацию сахарного тростника, которую переименовал в Вестерхолл. Его младший брат, сэр Уильям Джонстон Палтни, возглавил объединение инвесторов, которые купили в 1792 году Дженеси-Тракт – полосу земли площадью более миллиона акров[343] на западе штата Нью-Йорк. Ко времени своей смерти он успел накопить собственность еще на Доминике, Гренаде, Тобаго и во Флориде. Все три младших Джонстона – Джон, Патрик и Гидеон – некоторое время прожили в Индостане, работая в Ост-Индской компании. У Джона все было прекрасно, он овладел персидским и бенгальским языками и скопил приличное состояние. Патрику не повезло: в 1756 году он погиб в возрасте девятнадцати лет в калькуттской “Черной яме”[344]. Служили Джонстоны и в британских колониях в Северной Америке: Джордж был губернатором Западной Флориды, Александр – армейским офицером в Канаде и на севере Нью-Йорка, а Гидеон – морским офицером у побережья Атлантического океана. Еще самый младший из Джонстонов бывал в Басре, на Маврикии и на мысе Доброй Надежды. На одном этапе своей карьеры он занимался коммерцией – а именно продавал паломникам воду из Ганга[345]. (Графическое изображение сети Джонстонов помещено во вклейке № 11.)
Главными центрами мировой купеческой сети выступали портовые города – Эдинбург, Лондон, Кингстон, Нью-Йорк, Кейптаун, Басра, Бомбей и Калькутта. Но по морским путям, соединявшим эти метрополии, везли не только товары и золото. Воды Атлантического океана пересекали и рабы – миллионы рабов. Сотни невольников трудились на гренадской плантации Джонстона; судебное дело, которое официально положило конец рабству в Шотландии, проиграл один из Джонстонов; и владельцем Белинды – последнего человека, которого суды Шотландии признали законно порабощенным, – тоже был один из Джонстонов (Джон). А еще по коммерческой сети XVIII века расходились идеи – в том числе и идеи об освобождении. Маргарет Джонстон была пламенной якобиткой[346], она вырвалась из заточения в Эдинбургском замке и умерла на чужбине, во Франции. Уильям Джонстон состоял членом эдинбургского клуба под названием “Избранное общество” – наряду с Адамом Смитом, Дэвидом Юмом и Адамом Фергюсоном, которые высоко ценили его ум. Сын Уильяма Джон вступил в “Эдинбургское общество за отмену африканской работорговли”. Его дядья Джеймс и Джон тоже были противниками рабства, а вот Уильям придерживался противоположных взглядов. Джордж одно время оказывал поддержку сторонникам Американской революции, а в 1778 году его отправили в колонии в составе злополучной Карлайлской мирной комиссии[347]. Джонстоны лично знали и Александра Гамильтона[348], и его заклятого врага Аарона Бэрра[349], который однажды нанес визит в дом Бетти в Эдинбурге[350]. Пожалуй, пример глобализированного семейства Джонстонов – это все же крайний случай. Но в XVIII веке даже в Ангулеме – французском провинциальном городке к северу от Бордо – поразительно большое количество жителей или бывало, или некоторое время жило за пределами Франции (см. вкл. № 14).
Глава 19
Сети Просвещения
Печатное слово сделало возможным Реформацию и подготовило почву для научной революции. Но, как ни странно, Просвещение было в не меньшей – если не в большей – степени обязано своим появлением более старомодному слову – рукописному. Конечно, философы публиковали свои сочинения, и многие – в большом количестве. И все же самыми важными своими идеями они обменивались друг с другом в частных письмах. И именно благодаря тому, что значительная часть этой корреспонденции сохранилась – а речь идет о десятках тысяч писем от более чем шести тысяч авторов, – современные ученые имеют возможность частично воссоздать эту сеть Просвещения.
Возникает соблазн изображать Просвещение как некий космополитический феномен, объединявший философов и образованных людей во всей Европе – от Глазго до Санкт-Петербурга. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что переписка ведущих мыслителей XVIII века охватывала в основном людей, живших в одной стране[351]. Например, если говорить о сети Вольтера, из более чем 1400 его корреспондентов 70 % были французами[352]. Нам известны место отправления и место назначения приблизительно 12 % писем Вольтера. Из них более половины (57 %) отправлялись из Парижа или в Париж. Конечно, Вольтер переписывался с Джонатаном Свифтом и Александром Попом, но это лишь горстка писем. Большинство его английских корреспондентов были малоизвестными лицами: например, это шелкоторговец сэр Эверард Фокенер и Джордж Кит, второразрядный поэт, с которым Вольтер познакомился в Ферне.
Вольтер являлся одним из нескольких главных “светочей” и крупных связующих центров (двумя другими были Жан-Жак Руссо и редактор “Энциклопедии” Жан-Батист Лерон д’Аламбер), чьи личные сети служили важными составными частями более обширной сети, которую их современники воспринимали как société littéraire ou savante[353][354]. Географический центр этой сети находился в Париже. Там умерло около 12 % выборки, представленной приблизительно двумя тысячами ее членов, и 23 % участников работы над “Энциклопедией”[355]. В социальном отношении эта сеть была весьма разреженной, а вернее сказать – утонченной: в нее входило 18 принцев и принцесс, 45 герцогов и герцогинь, 127 маркизов и маркиз, 112 графов и графинь и 39 баронов и баронесс[356]. В XVIII веке аристократы составляли всего 0,5 % населения Франции, но при этом пятую часть так называемой республики ученых[357]. Кроме того, для сети, которую обычно ассоциируют с критическим взглядом на установленный государственный строй, в эту республику входило чересчур много высокопоставленных королевских чиновников[358]. И наконец, мы склонны допускать, что между научной революцией и Просвещением имелась значительная преемственность, но в действительности в этой сети было мало настоящих ученых-профессионалов, хотя очень многие состояли членами научных организаций, например, Французской академии (Académie française) или Королевской академии наук (Académie royale des sciences). Это была в большей степени республика словесности, нежели республика формул, и сеть очеркистов – в большей степени, нежели сеть экспериментаторов.

Илл. 14. Сеть корреспондентов Вольтера. Она была гораздо более франкоцентричной, чем можно было бы предположить, исходя из привычных представлений о Просвещении как международном движении.
Разумеется, сети корреспонденции могут рассказать лишь часть истории Просвещения. Те, кто знал Вольтера, Руссо или д’Аламбера, стремились не только переписываться, но и встречаться с ними. Так возникла еще и “республика гостиных”, и важную посредническую роль в ней играли sallonnières – хозяйки “салонов”, превратившие свои дома в центры великосветского общения. Получить приглашения от них мечтали многие интеллектуалы[359]. Парижских писак-поденщиков (вроде лондонских, концентрировавшихся на Граб-стрит) приглашали туда редко. Но “слабые связи” между возвышенной сетью “светочей” и приземленной сетью бульварной прессы все же существовали: с Вольтером, Руссо или д’Аламбером переписывались восемь представителей так называемого литературного подполья[360].
В разных странах Просвещение понимали по‐своему. Как в Париже, так и в Эдинбурге новые сети вольнодумства возникали и развивались в зазорах между официальными институтами королевской власти и Церкви. В столице Шотландии имелись гражданский Сессионный суд, Высший уголовный суд, Казначейство, суды низшей инстанции – Комиссарский и Адмиралтейский, Коллегия адвокатов, Конвент королевских городов с самоуправлением, Генеральная ассамблея шотландской церкви и Эдинбургский университет. С 1751 года Адам Смит был университетским профессором (хотя и не в столице, а в Глазго). С 1752 года Дэвид Юм занимал должность хранителя Адвокатской библиотеки. Как во Франции, так и в Шотландии одним из важнейших источников материальной подпитки интеллектуальной жизни было покровительство аристократов. С 1764 по 1766 год Смит был гувернером и наставником юного герцога Баклю. Великих эдинбургских мыслителей, как и их французских коллег, никак нельзя было назвать революционерами. С другой стороны, не были они и реакционерами. Большинство порицали якобитство и приветствовали правление Ганноверской династии. (Среди проектов Нового города – центрального района Эдинбурга – был и такой вариант, где сеть улиц на плане напоминала форму союзного флага Великобритании[361].) Тем не менее основная интеллектуальная деятельность протекала в ту пору не в официальных учреждениях, а в новых и неформальных клубах Старого города – в Философском обществе (основанном в 1737 году с более громоздким названием: Эдинбургское общество усовершенствования искусств и наук и особенно естественнонаучных знаний) и в Избранном обществе (1754–1762). И точно так же как во Франции dévots (“набожные”) порицали и пытались подвергнуть гонениям своих философов, так и традиционалисты-пресвитерианцы видели в шотландских эрудитах “чертей из ада”. Всего за несколько поколений ярые наследники кальвинистской революции XVI века превратились в ревнителей сурового религиозного института – Церкви Шотландии, или Кирки (the Kirk). Пресвитерианский синод церкви Шотландии подверг священника Джона Хоума публичному суду и постановил отстранить его от пастырства за то, что он написал драму “Дуглас” (1757)[362]. Здесь, как и во всей протестантской Европе, печатный станок оказался ящиком Пандоры.
Как и французские просветители, шотландские эрудиты мыслили в мировых масштабах, а действовали в рамках собственной страны, насколько можно судить по корреспонденции десяти выдающихся шотландцев, включая Юма и Смита (см. илл. 15)[363]. В десять раз больше писем шло в Глазго и Эдинбург и приходило к ним из этих городов, чем в Париж или из Парижа. Впрочем, Лондон занимал еще более важное место, чем Глазго: ведь это была британская сеть, а не шотландская. В любом случае Просвещение не было каким‐нибудь курсом заочного обучения, да и его главные деятели не были просто друзьями по переписке. Адам Смит в качестве наставника герцога Баклю посещал Париж, где встречался (наряду с другими тогдашними светилами) с д’Аламбером, с физиократом Франсуа Кенэ и с Бенджамином Франклином. Республика ученых была передвижной. Крупные мыслители XVIII столетия стали еще и первопроходцами туризма.

Илл. 15. Пародия на “Афинскую школу” Рафаэля, гравюра Джеймса Скотта по картине сэра Джошуа Рейнольдса (1751). Сеть Просвещения в равной степени опиралась на туризм и на переписку.
У жадных до знаний интеллектуалов, родившихся и выросших за океаном, выхода вообще не было: им необходимо было хотя бы некоторое время пожить в Великобритании и Франции. Фигура Бенджамина Франклина олицетворяла колониальное Просвещение. Пятнадцатый ребенок в семье переселенца-пуританина родом из Нортгемптоншира, Франклин был самоучкой и разносторонним эрудитом, он чувствовал себя одинаково уютно и в лаборатории, и в библиотеке. В 1727 году он основал “Джунто”, или “Клуб кожаных фартуков”, где могли бы собираться и обмениваться мнениями люди вроде него самого. Через два года он начал выпускать “Пенсильванскую газету”. А еще через двенадцать лет учредил новую организацию – Американское философское общество. В 1749 году Франклин сделался первым президентом Академии, Благотворительной школы и Колледжа Филадельфии. Однако Филадельфия – с ее 25 тысячами жителей – не походила на Эдинбург и уж тем более на Париж, который превосходил ее размерами в двадцать раз. До 1763 года Франклин не вел переписки ни с кем за пределами американских колоний. Лишь после поездки в Лондон, состоявшейся в том году, доля неамериканцев среди его корреспондентов подскочила с нуля до почти четверти. Хотя Франклин никогда не переписывался с Вольтером (практически своим современником), благодаря поездкам в Европу он сделался полноправным участником тогдашней сети Просвещения. В 1756 году его избрали членом Лондонского королевского общества, а также Королевского общества искусств. Помимо многочисленных поездок в Лондон, Франклин бывал в Эдинбурге и Париже, а еще ездил по Ирландии и Германии[364]. Все это происходило еще до того, как Франклин превратился в одного из мятежных колонистов, которые задумали объявить независимость от метрополии и оборвать иерархические связи, подчинявшие американские колонии “королю в парламенте” в далеком Лондоне. Как ни парадоксально, для колониальных интеллектуалов из поколения Франклина столицей Америки оставался Лондон, пускай со временем они и начали тяготиться ограничением политических свобод, которое налагала на них лондонская власть[365].