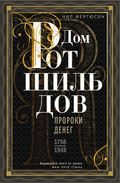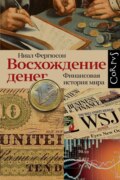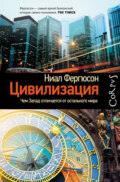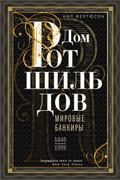Ниал (Нил) Фергюсон
Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook
Глава 14
Первооткрыватели
Прогресс, достигнутый в Италии и сопредельных странах, показывает, что с точки зрения культурно-экономического развития Европа еще до конца XV века сильно опережала остальной мир. Однако решающим прорывом, возвестившим эпоху мирового господства Европы, стал не столько итальянский Ренессанс, сколько иберийский век Великих географических открытий. При Генрихе (Энрике) Мореплавателе (1415–1460) моряки из Португалии начали пускаться во все более удаленные от Европы плавания: вначале на юг, вдоль побережья Западной Африки, а затем и за Атлантический, Индийский и, наконец, Тихий океаны. Эти необычайно честолюбивые и рискованные путешествия положили начало сети новых морских торговых путей, которым предстояло в короткие сроки превратить мировую экономику, состоявшую из разрозненных лоскутов региональных рынков, в единый мировой рынок. Хотя все эти экспедиции снаряжались из королевской казны, сами первооткрыватели являли собой социальную сеть: они делились друг с другом сведениями о кораблестроении, навигации, географии и военном деле. Как часто случалось в истории, эти новые сети возникли благодаря новым технологиям, а сети в то же время помогали быстрее распространять новшества. Более совершенные корабли, астролябии, карты и пушки – все это способствовало новым ошеломительным достижениям эпохи географических открытий. Как, впрочем, и завезенные через Атлантику евразийские болезни, против которых оказались беззащитны коренные американские народы. Потому‐то в Новом Свете – в большей степени, чем в Азии, – эпоха открытий стала еще и эпохой завоеваний.
Начиная с 1434 года, когда Жил Эанеш успешно обогнул Кабо-Бохадор – “выпирающий мыс” на северном побережье нынешней Западной Сахары, – португальские моряки, прежде набиравшиеся опыта вблизи утесов Сагреша, по нарастающей увеличивали размах плаваний, все смелее удаляясь от суши. Весной 1488 года Бартоломеу Диаш достиг Кваихука – мыса в сегодняшней Восточно-Капской провинции ЮАР, а на обратном пути в Португалию открыл мыс Доброй Надежды. Десятилетием позже Васко (Вашку) да Гама продолжил этот маршрут до Мозамбика, а оттуда (пользуясь указаниями местного лоцмана) доплыл по Индийскому океану до Каликута (Кожикоде) в Керале. В феврале 1500 года по их следам отправился Педру Алвариш Кабрал, но, взяв курс на юго-запад, чтобы избежать штиля в Гвинейском заливе, он доплыл в итоге до побережья Бразилии. Не довольствуясь этим открытием, он все‐таки отправился в Каликут, а оттуда – после ожесточенной стычки с конкурентами, мусульманскими торговцами, поплыл еще южнее и достиг Кочина (Кочи). С 1502 по 1511 год португальцы методично создавали сеть укрепленных торговых поселений, или факторий, куда вошли остров Килва-Кисивани (Танзания), Момбаса (Кения), Каннур (Керала), Гоа и Малакка (Малайзия)[282]. Все эти места были совершенно неведомы прежним поколениям европейцев.
В августе 1517 года восемь португальских кораблей приблизились к побережью Гуандуна. Это событие следовало бы помнить лучше, так как речь идет об одном из первых контактов между европейцами и Китайской империей со времен Марко Поло, побывавшего там в конце XIII века[283]. Командовал португальской флотилией Фернау Переш де Андраде; еще на борту был аптекарь Томе Пиреш, отряженный как будущий посланник португальской короны при дворе династии Мин. Почему об этой экспедиции почти забыли, в общем‐то понятно: ничего хорошего из нее не вышло. Поторговав в Тамао (Туен-Мун на сегодняшнем острове Ней-Линдин) в устье Жемчужной реки, в сентябре 1518 года португальцы снова уплыли. А спустя одиннадцать месяцев возвратились три португальских корабля – на сей раз под командованием Симау де Андраде, брата Фернау. В январе 1520 года Томе Пиреш отплыл на север в надежде попасть на прием к императору Чжэндэ, но при китайском дворе ему раз за разом отказывали, а после кончины императора 19 апреля 1521 года Томе оказался в плену. Вскоре после этого в Тамао прибыл другой португальский флот под началом Диогу Калву. Китайские чиновники потребовали, чтобы он убрался. Калву ответил отказом, и начался бой. Даже прибытие подмоги – двух кораблей из Малакки – не помогло португальцам: они потерпели унизительное поражение от китайского флота под командованием минского адмирала Ван Хуна. Все португальские корабли, кроме трех, были потоплены. А годом позже, в августе 1522 года, португальцы вновь решили попытать счастья, и в Тамао приплыли три судна под началом Мартима Коутиньо. Хотя мореплаватели привезли с собой королевскую грамоту, повелевавшую заключить мир с китайцами, вновь состоялось сражение, и два португальских корабля были потоплены. На захваченных португальских моряков надели канги (деревянные шейные колодки), а в сентябре 1523 года их казнили. Томе и других представителей первой дипломатической миссии заставили написать письма на родину и передать требование китайских властей: португальские захватчики должны вернуть Малакку ее законным владельцам.
Словом, эта череда событий, обернувшаяся разочарованием, напоминает о том, что европейские заокеанские завоевания отнюдь не всегда были гладким и необратимым процессом. Действительно, слишком легко забывается, какими опасностями были чреваты все описанные выше плавания. Васко да Гама во время первого плавания в Каликут лишился половины всей своей команды, включая родного брата. Кабрал в 1500 году отплыл в путь с двенадцатью кораблями, а до цели доплыли только пять. Почему же португальцы все‐таки шли на такие огромные риски? Ответ прост: проложив, а затем монополизировав новые морские пути для торговли с Азией, можно было получить прибыль, которая с лихвой оправдала бы любые риски. Хорошо известно, что в XVI веке в Европе быстро рос спрос на азиатские пряности – перец, имбирь, гвоздику, мускатный орех и мускатный цвет. Разрыв в ценах на рынках Европы и Азии вначале был колоссальным. Меньше известно о том, как настойчиво португальцы пытались вмешаться в уже налаженную внутриазиатскую торговлю. В минский Китай везли не только перец с Суматры, но еще и опиум, чернильный орешек (из‐за содержания танина он применялся в китайской медицине как вяжущее средство), шафран, кораллы, ткани, киноварь, ртуть, черное дерево, путчак (пачак) для благовонных воскурений, ладан и слоновую кость. Из Китая же вывозили медь, селитру, свинец, квасцы, паклю, канаты, изделия из железа, деготь, шелковую пряжу и шелковые ткани (например, разные виды дамаста, атлас, парчу), фарфор, мускус, серебро, золото, мелкий жемчуг, позолоченные ларцы, изделия из дерева, солонки и расписные веера[284]. Были, конечно, и другие стимулы, заставлявшие португальцев преодолевать половину земного шара. В ту пору азиатская медицина кое в чем превосходила европейскую, и, можно не сомневаться, Томе Пиреш надеялся узнать в Китае много полезного. Имелся еще и религиозный мотив – распространять христианство, причем он усилился с проникновением в Азию иезуитов – агентов католической организации, основанной в 1530‐х годах испанским солдатом Игнатием Лойолой. Наконец, речь шла о бесспорной выгоде, какую сулило установление дипломатических отношений с китайским императором. Впрочем, если бы не настоятельная коммерческая потребность, сомнительно, что все эти дополнительные мотивы заставили бы мореходов преодолевать столь огромные расстояния, идя на подобные риски и лишения.
Португальцы не везли множество собственных товаров на продажу азиатским покупателям (если не считать некоторого количества рабов и золота из их западноафриканских факторий). Такой цели у них не было. Не были они и завоевателями, намеревавшимися добыть новые земли или новых подданных для своего короля. Зато у португальцев имелся ряд технических преимуществ, благодаря которым они вполне могли выполнить свою задачу, а именно создать новую и лучшую на тот момент торговую сеть[285]. Их знание арабских, абиссинских и индийских текстов позволяло методично обучать правильному использованию квадрантов и астролябий: так возникли, например, трактаты Regimento do Estrolabio et do Quandrante (1493) и Almanach Perpetuum (1496) астронома Абраау (Авраама) Закуто – одного из многих евреев-сефардов, поселившихся в Португалии после изгнания “неверных” из Испании в 1492 году[286]. Португальские ремесленники Агостиньо де Гоэш Рапозу, Франсишку Гоиш и Жоау Диаш усовершенствовали конструкцию навигационных приборов. Португальская каравелла и ее продолжательницы – большая каракка (или нау) (1480) и галеон (1510) – тоже значительно превосходили другие парусные суда того времени. Наконец, с созданием Планисферы Кантино в 1502 году португальцы совершили большой прорыв в картографии: появилась первая современная проекция географических очертаний Земли, где довольно точно отображалось расположение основных материков, не считая, конечно, Австралии и Антарктиды (см. вкл. № 7).
События, которые произошли, когда эта чрезвычайно новаторская и динамичная сеть попыталась обзавестись новым “узлом” в Южном Китае, служат наглядным примером того, какие неприятности подстерегают сеть, которая соприкасается с закоснелой, жестко регламентированной иерархией. Китайский император правил с недосягаемой высоты. “Я с трепетом принял наказ Неба и правлю китайцами и народом йи, – писал император Юнлэ правителю Аютии (Айюттхаи) в Таиланде в 1419 году. – В своем правлении я олицетворяю любовь Неба и Земли и заботу о благоденствии всего сущего и взираю равно на всех, не делая различий между одним и другим”. Меньшие владыки должны знать свое место – им положено “чтить небо и служить высшим”, платя им дань[287]. В действительности император Юнлэ благосклонно смотрел на плавания по океанам. Именно в его царствование флотоводец Чжэнь Хэ совершил экспедицию в поисках сокровищ, доплыв до побережья Восточной Африки[288]. Однако преемники Юнлэ отдали предпочтение автаркии, к которой в целом тяготело имперское чиновничество, и заморская торговля была официально запрещена. В глазах правителей из династии Мин португальские незваные гости были “фо-лан-чи” (от принятого в Индии и в Юго-Восточной Азии собирательного понятия “ференги”, которое, в свою очередь, произошло от арабского названия “франков”, то есть крестоносцев). В этом термине не было ни малейшей симпатии к пришельцам. Китайцы считали чужеземцев “людьми с нечистыми сердцами”. Ходили слухи, будто они жарят и едят детей.
Португальцы не ошибались, полагая, что в Китае имеются огромные экономические перспективы. И в Сиаме, и в Малакке уже вовсю шла незаконная торговля через Юэ-Кан (вблизи Чжанчжоу в провинции Фуцзянь). Если мандарины из имперской администрации – ученые чиновники вроде Цю Даолуна и Хэ Ао – желали свести к минимуму общение с чужеземцами, то евнухи, преобладавшие при императорском дворе, напротив, вожделели диковинных привозных товаров, а еще их привлекало иностранное серебро, которое можно было получить от торговли. Однако португальцы, положение которых и без того было шатким, стали слишком много себе позволять. Симау де Андраде выказывал грубейшее неуважение к чувствам местных жителей. Без разрешения имперских чиновников он выстроил форт в Тамао, самочинно повесил моряка-португальца, нарушив китайские законы, не пускал в гавань непортугальские корабли, а когда к нему явились с претензиями, он сбил шапку с головы мандарина. Покупая китайских детей себе в услужение, он подкреплял подозрения местных, будто фо-лан-чи – и в самом деле людоеды. В свою очередь, китайские чиновники обходились с Томе Пирешем надменно и презрительно. Когда Пиреш с товарищами проделали длинное путешествие до Пекина, им велели в первый и пятнадцатый день каждого лунного месяца приходить к стене Запретного Города и почтительно простираться перед ней. Португальцы не ведали того, что император Чжэндэ до того погряз в своих пирах и распутстве, что ни на миг не задумался о том, чтобы дать гостям аудиенцию, ради которой они и притащились в такую даль.
Однако самая большая ошибка европейцев заключалась в том, что они недооценили систему даннических отношений. А она, являясь сутью иерархического строя, простирала влияние китайского императора далеко за границы его империи. Португальцы возомнили, что теперь Малакка, этот жизненно важный торговый центр, принадлежит им. Но раджа Бинтана (Бентана), сын беглого малаккского султана Махмуд-шаха, считал иначе. Его посланник, находившийся в Пекине, предупредил китайские власти, что португальцы замышляют “присвоить их страну… и что они – грабители”, что явствовало из письма Криштовао Виейры, одного из португальских моряков, которого позже китайцы захватили в плен. Это предупреждение нашло отклик у имперских чиновников: Махмуд-шах всегда был благонадежным данником[289].
Почему же португальцы в итоге восторжествовали и в 1557 году все‐таки сделали Макао частью своей сети, а затем удерживали за собой это приобретение еще более четырехсот лет? Дело в том, что произошли два изменения. Во-первых, китайский запрет, наложенный на торговлю, оказался неосуществимым. Из Португалии приплыли новые люди – Леонель де Соуза и Симау д’Алмейда, и им удалось застолбить себе место в гуандунской торговле. Используя правильную мотивацию, чиновников вроде Ван По – заместителя командующего Гуандунской морской зоной обороны – можно было превратить из врагов в деловых партнеров. Во-вторых, одержав победы в первых морских сражениях с чужаками, китайцы по достоинству оценили превосходство португальских кораблей и пушек. А главное, минские чиновники со временем начали относиться к португальцам как к меньшему злу по сравнению с туземными восточноазиатскими пиратами. В июне 1568 года Триштау Ваз да Вейга помог китайскому флоту защитить Макао от пиратского флота, насчитывавшего около сотни кораблей[290]. После 1601 года португальские и китайские войска сражались сообща, отгоняя новых непрошеных вторженцев – на сей раз из Нидерландов.
Глава 15
Писарро и инки
Если португальская морская сеть раскинулась на восток, то испанская протянулась на запад и на юг. По условиям Тордесильясского договора (1494) Испания могла претендовать на любые земли в обеих Америках, кроме Бразилии. Различались они и в другом. Если португальские первооткрыватели по большей части довольствовались тем, что создавали сеть укрепленных факторий вблизи побережья, то испанцы забирались вглубь суши в поисках золота и серебра. Имелось и третье различие: если азиатские империи, с которыми встретились португальцы, устояли под натиском их набегов и пошли лишь на незначительные территориальные уступки, то американские империи, на которые напали испанцы, рухнули с поразительной быстротой. Это произошло в большей степени из‐за катастрофических последствий инфекционных евразийских болезней, которые завезли из‐за Атлантического океана испанцы, нежели из‐за их технического превосходства. Впрочем, в других отношениях все, что случилось, когда Франсиско Писарро и 167 его спутников столкнулись в ноябре 1532 года с инкским правителем Атауальпой в Кахамарке, очень напоминало случившееся десятилетием ранее в Гуандуне. По сути, европейская сеть атаковала неевропейскую иерархию.
Конкистадоры были разношерстной братией. Конечно, все они были очень выносливы, ведь долгий сухопутный марш на юг мог сравниться по тяготам с любым трансатлантическим плаванием. А еще, имея лошадей, ружья (аркебузы) и стальные мечи, они были вооружены гораздо лучше, чем инки в Перу, у которых любимым оружием оставалась деревянная дубинка. Как и португальскими первооткрывателями, испанцами двигали экономические мотивы, только они явились не торговать, а грабить. Они собирались присвоить имевшиеся в империи инков обильные запасы золота и серебра. Одна только первая экспедиция принесла захватчикам 13 420 фунтов 22‐каратного золота, (сегодня оно стоило бы 26 миллионов долларов) и 26 тысяч фунтов серебра (на 7 миллионов). Как и португальцы, испанцы привезли с собой священников (шестерых монахов-доминиканцев, из которых в живых в итоге остался один). И, подобно португальцам, испанцы применяли насилие, чтобы сломить сопротивление туземцев, пуская в ход пытки, массовые изнасилования, сожжения на костре и беспорядочную резню. Однако самой поразительной чертой конкистадоров была их склонность ссориться между собой, часто доходившая до кровопролития. Враждебность Эрнана, брата Франсиско Писарро, к Диего де Альмагро была лишь одним из примеров бесчисленных усобиц. Империю инков обрекла на гибель не сила испанских захватчиков, а слабость самой империи.
Даже сегодня сооружения в Пачакамаке, Куско и Мачу-Пикчу свидетельствуют о том, что императоры инков правили большим и весьма цивилизованным государством, которое называлось на их языке Тауантинсуйю. В течение столетия они удерживали под своей властью территорию в Андах площадью 36 244 квадратных километра, а население ее, по современным оценкам, составляло от 5 до 10 миллионов человек. Это высокогорное царство объединяла сеть дорог, лестниц и мостов, многими из которых можно пользоваться по сей день[291]. Инки успешно занимались сельским хозяйством, разводя лам ради шерсти и выращивая маис. Это было относительно богатое общество, хотя золото и серебро служило инкам не деньгами, а украшениями, а в хозяйственных и административных целях их чиновники-счетоводы, кипукамайоки, пользовались системой веревочных узелков – кипу[292]. Правление инков носило жестокий иерархический характер. Культ солнца сопровождался человеческими жертвоприношениями и беспощадными наказаниями. Знать жила за счет излишков, производимых трудом подневольного класса. Правда, это была менее развитая цивилизация, чем китайская: в ней отсутствовала письменность, не говоря уже о литературе или кодифицированных законах[293]. И все же представляется почти невероятным, что Писарро и его люди сумели одержать победу при таком численном превосходстве инков: их было 240 человек на одного испанца. Роковыми для туземцев оказались две слабости. Первой и главной стала оспа, косившая местное население и распространявшаяся к югу даже быстрее, чем перемещались сами испанцы, которые и завезли в Новый Свет эту болезнь. Вторым фактором стал внутренний раскол: в пору испанского завоевания Атауальпа как раз вел войну за власть со своим сводным братом Уаскаром, оспаривая его право считаться законным наследником правителя инков Уайны Капака. Писарро без особых сложностей набрал вспомогательные войска из местных жителей.
Но правильно ли называть последовавшие события “завоеванием”? Разумеется, Писарро удалось унизить, ограбить и в итоге убить Атауальпу, а также подавить восстание Манко Инки Юпанки в 1536 году – обо всех этих событиях подробно и ярко рассказал Фелипе Гуаман Пома де Айяла в своей хронике Nueva Corónica y Buen Gobierno (1600–1615). Однако смешанное имя автора, кечуа-испанское, рассказывает и собственную историю. В отличие от Северной Америки, где туземцев было меньше, а европейских колонизаторов, напротив, больше, в Южной Америке слияние пришельцев с местным населением было жизненно необходимо. Достаточно одного примера: Франсиско Писарро взял в любовницы любимую сестру Атауальпы, которую сам правитель отдал ему в жены. После смерти Франсиско она вышла замуж за испанца по имени Ампуэро и уехала в Испанию, взяв с собой дочь Франсиску, которая позднее королевским указом будет признана законной дочерью Писарро. В октябре 1537 года Франсиска Писарро Юпанки вышла замуж за своего дядю, Эрнандо Писарро. А еще у Писарро был сын Франсиско (так никогда и не признанный законным) от жены Атауальпы, которую он тоже взял в наложницы. Это типичная иллюстрация той новой “мультикультурной семейной паутины”, которую плело первое поколение конкистадоров, вознамерившись узаконить собственное положение на вершинах иерархических систем, перешедших в их руки (см. илл. 11). Поэтому уместнее было бы говорить не о “завоевании”, а о “смешении” или “скрещении”. (Самый знаменитый летописец испанского завоевания, Гарсиласо де ла Вега, сам был сыном конкистадора и инкской принцессы Пальи Чимпу Окльо[294].) Похожие стратегии осуществляли и другие европейские колонизаторы в Новом Свете – например, французские крестьяне и торговцы пушниной, поселившиеся в 1700‐х годах в Каскаскии в Иллинойсе[295]. Европейские “завоеватели” не только переняли уже существовавшие системы управления и землепользования, но и породнились с коренным населением[296].

Илл. 11. Сеть “завоевания”: межнациональные браки между конкистадорами и женщинами из знатных ацтекских и инкских семей.
Тем не менее прочным следствием такой практики в Южной Америке явилась отнюдь не культура, признающая сам факт генетического смешения[297], а, напротив, попытка рассортировать людей в соответствии с “чистотой крови” (limpieza de sangre). Само это понятие, завезенное испанцами в Новый Свет, явилось отголоском изгнания мавров и евреев из Испании. Кастовая номенклатура, изображавшаяся на картинах XVIII века из Новой Испании, начинается с более или менее знакомых определений: De Español e Yndia nace mestizo (“От испанца и индейской женщины рождается метис”), De Español y Negra sale Mulato (“От испанца и чернокожей появляется на свет мулат”), но дальше начинаются диковинные дебри. Например, говорится, что от испанца и мулатки родится уже мориско (то есть мавр, как называли в Испании бывших мусульман, обратившихся в христианство после Реконкисты). От союза мулата с туземкой родится кальпамулато. Среди других вариантов в серии из шестнадцати картин, написанных в 1770 году мексиканским художником Хосе Хоакином Магоном, были лобо (буквально “волк”), камбухо, самбаиго, квартерон, койот и албарасадо. Имелась даже категория, называвшаяся Tente en el Aire[298] (“Подвешенный в воздухе”)[299]. При подобной классификации количество разных фенотипов обычно колебалось между шестнадцатью и двадцатью, хотя в некоторых источниках начала XIX века их приводится больше сотни. Кастовая система отражала не только антропологический интерес, хотя она и свидетельствует об искренних попытках применить на деле тогдашние теории наследственности. Хотя “очищение” и считалось возможным – например, женившись на испанке, метис мог произвести на свет кастисо, то есть креола, а тот, в свой черед, мог дать жизнь уже чистому испанцу, женившись на испанке, – в целом вся эта система негласно подразумевала (ибо ее никогда официально не включали в колониальное законодательство) дискриминацию всех, в чьих жилах текло слишком мало испанской крови или же не текло вовсе. Таким образом, сложная вязь смешанных браков в испанской Америке вызвала к жизни новую иерархию.