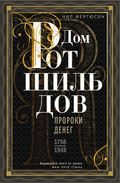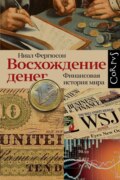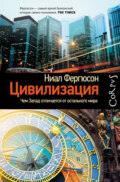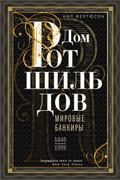Ниал (Нил) Фергюсон
Площадь и башня. Cети и власть от масонов до Facebook
Иллюминаты не были причиной Французской революции и тем более восхождения Наполеона, хотя эти события, несомненно, пошли им на пользу (все, кроме Вейсгаупта, получили прощение, а некоторые, в частности Дальберг, обрели большой вес). Они вовсе не продолжали строить козни, стремясь к мировому господству, вплоть до нынешнего времени, а прекратили всякую деятельность еще в 1780‐х годах. Попытки же возродить орден в ХХ веке оказывались по большей части надуманными[238]. Тем не менее история иллюминатов является неотъемлемой частью сложного исторического процесса, который привел Европу от Просвещения к революции и империи, – процесса, в котором интеллектуальные сети, бесспорно, играли решающую роль.
Обращаясь к лучшим современным исследованиям, в этой книге я пытаюсь высвободить историю сетей из тисков конспирологов и показать, что исторические перемены часто можно и должно понимать с точки зрения именно таких вызовов, которые сети бросают иерархическим порядкам.
Часть II
Правители и первооткрыватели
Глава 11
Краткая история иерархии
В эпическом спагетти-вестерне Серджо Леоне “Хороший, плохой, злой” герои, которых играют Клинт Иствуд и Илай Уоллак, охотятся за пропавшим золотом конфедератов. Дело происходит во время Гражданской войны, и сокровища зарыты на огромном новом кладбище под одной из могильных плит. К сожалению, они понятия не имеют, под какой именно[239]. Иствуд, предусмотрительно разрядив револьвер Уоллака, поворачивается к напарнику и произносит бессмертную реплику: “Видишь ли, дружище, в этом мире все люди делятся на два сорта. У одних – заряженные стволы. А другие копают. Давай копай”.
Это современный пример древней истины. На протяжении большей части человеческой истории жизнь была устроена иерархическим образом. Лишь немногие наслаждались привилегиями, которые появились у них благодаря монополизации насилия. Все остальные копали.
Почему же иерархии предшествовали сетям? Ответ очевиден: даже в самых ранних группах доисторических гоминидов имелось разделение труда и существовала иерархия, основанная на обладании природными качествами – физической силой и умственными способностями. Поэтому первобытные племена были – и остаются – похожими скорее на иерархии, нежели на распределенные сети[240]. Даже “по необходимости объединенные охотники-собиратели” нуждались в руководстве[241]. Кому‐то ведь нужно решать, что хватит уже наводить чистоту и пора идти на охоту. Кому‐то нужно делить добычу и следить за тем, чтобы слабосильные детеныши и старики получили свою долю. А кому‐то еще нужно копать.
Когда древнейшие люди начали объединяться в более многочисленные группы и заниматься более сложными видами охоты и собирательства, у них сложились первые системы понятий – разъясняющие мифы о богах, наделенных сверхъестественной властью над природными стихиями, а еще они придумали первые обряды, меняющие состояние сознания, и познакомились с психотропными веществами[242]. Кроме того, они овладели азами военных искусств и научились изготавливать в заметных количествах примитивное оружие – боевые топоры и луки со стрелами[243]. Ранним сельскохозяйственным общинам неолитического века (то есть примерно с XI века до н. э.) явно приходилось тратить значительные ресурсы на оборону от набегов чужаков (или же на организацию собственных набегов). Расслоение общества на господ и рабов, на воинов и тружеников, на жрецов и молящихся, по всей видимости, началось очень рано. Когда из наскальной живописи родилась письменность, применявшая знаки-символы, возникла первая разновидность хранения данных вне человеческого мозга, а вместе с нею появилось и первое ученое сословие.
Иными словами, хотя ранние политические структуры различались между собой – одни тяготели к автократии, другие к коллективному управлению, – их роднила главная общая черта: расслоение общества. Власть карать преступников почти всегда делегировалась какому‐то одному человеку или же совету старейшин. Способность успешно вести войны сделалась главным атрибутом правителя. Государство, как уже говорилось, явилось “предсказуемым результатом человеческой природы”[244]. То же самое можно сказать и о гонке вооружений, так как новшества в военной технологии – изобретение более твердых наконечников для стрел, использование лошадей как средства передвижения во время нападений – открывали более короткий путь к власти и богатству[245]. То же самое относится и к появлению “нового вида иерархии, в которой господство принадлежало «Большому человеку», которому необязательно самому быть физически сильным: лишь бы у него доставало богатств, чтобы платить небольшой клике вооруженных и преданных подчиненных”[246].
У иерархии есть множество преимуществ – и для экономики, и для процесса управления. По вполне здравым причинам подавляющее большинство государств – с древности и до начала современного периода – имело иерархическое устройство. Подобно корпорациям более позднего времени, ранние государства стремились экономить на масштабах и снижать транзакционные издержки, особенно в области военных действий. По столь же здравым причинам многие честолюбивые самодержцы старались повысить собственную легитимность, отождествляя себя с богами. Подневольному люду легче было сносить власть иерархии, если ему внушали, что за ней стоит божественная воля. Однако правление “Большого человека” имело – и до сих пор имеет – и неистребимые недостатки: прежде всего, оно сопряжено с нерациональным использованием ресурсов, которые обычно уходят на удовлетворение непомерных аппетитов самого “Большого человека”, его потомства и верных приспешников. Но Древний мир постоянно и почти повсеместно преследовала одна беда: граждане враждующих между собой государств чаще всего уступали чрезмерные полномочия наследственным военным элитам, а также жреческим элитам, чья задача состояла в том, чтобы насаждать религиозные учения и прочие узаконивающие власть идеи. Где бы это ни происходило, общественные сети жестко подчинялись иерархическим правилам. Грамотность оставалась привилегией. Уделом большинства простых людей был тяжкий труд. Они жили в деревнях, причем каждая была “латерально изолирована” (по определению Эрнеста Геллнера) от всего мира, кроме самых ближайших соседей. Такого рода изоляция прекрасно описана как своего рода постоянный умственный туман в романе Кадзуо Исигуро “Погребенный великан”[247]. Лишь правящая элита могла поддерживать сетевые связи поверх больших расстояний: например, сети египетских фараонов в XIV веке до н. э. простирались от местных ханаанских правителей до владык в больших городах вроде Вавилона, Митанни и Хаттусы[248]. Но даже эти элитные сети оставались источником опасности для иерархического порядка: еще в самых ранних исторических записях мы читаем о заговорах и кознях, какие строились, например, против Александра Македонского, – о темных, недоброжелательных группировках внутри сети[249]. В этом мире не поощряли новаторов – в нем карали смертью тех, кто отклонялся от общих правил. В ту эпоху информация не поступала ни вверх, ни вбок, а только сверху вниз, если вообще поступала. Следовательно, типичной для Древнего мира была история, случившаяся в Южной Месопотамии при Третьей династии Ура (XXII–XXI века до н. э.): там сумели создать масштабную систему ирригации, но не сумели справиться с засолением почвы и резким падением урожайности[250]. (Похожая участь позднее постигла Абассидский халифат, которому не удалось сохранить оросительную инфраструктуру на территории сегодняшнего Южного Ирака из‐за постоянных споров вокруг престолонаследия – этой общей напасти всех наследственных иерархий[251].)
Конечно, были и эксперименты с более рассредоточенным политическим устройством – “тесный мир” афинской демократии[252], Римская республика, – но, что характерно, эти эксперименты длились недолго. В своем классическом труде “Римская революция” (The Roman Revolution) Рональд Сайм утверждал, что республикой в любом случае управляли римские аристократы, чьи междоусобные распри и ввергли Италию в гражданскую войну. “Политикой и действиями римского народа руководила олигархия, его анналы писались в олигархическом духе, – замечал Сайм, новозеландец, из которого Оксфорд сделал циника. – История рождалась из записей, фиксировавших консульства и триумфы знати, nobiles, из передаваемых потомкам сообщений о происхождении, о союзах и распрях их родов”. Август пришел к власти не просто потому, что был талантлив, но еще и потому, что он понимал, как важно иметь “союзников… и сторонников”. Собрав из своих приверженцев “цезарианскую партию”, Август сумел постепенно сосредоточить власть в собственных руках, продолжая все это время на словах восстанавливать республику. “В некоторых отношениях, – писал Сайм, – его принципат являлся синдикатом”. Между тем “старая система понятий” сохранялась: созданная Августом монархия, как прежде и республика, была лишь фасадом, за которым скрывалась и правила олигархия[253].
Конечно, в римскую эпоху существовал и Шелковый путь, как пишет Питер Франкопан: “Сотрясения распространялись по разветвленной сети, которая простиралась повсюду, где странствовали пилигримы и воины, кочевники и купцы, где производились, продавались и покупались товары, где обменивались идеями, принимали или даже улучшали их”[254][255]. Однако эта сеть способствовала не только торговому обмену, но и распространению болезней, а процветающие городские центры, стоявшие вдоль Шелкового пути, всегда были уязвимы для набегов кочевников вроде сюнну или хунну (гуннов) и скифов[256]. Главный урок классической политической теории сводился к тому, что правление должно быть иерархическим и что чем крупнее становится политическая единица, тем в меньшем количестве рук естественным образом сосредоточивается высшая власть. Примечательно, насколько параллельными путями шло развитие Римской империи и Китайской империи при династиях Цин и Хань, по крайней мере до VI века, – не в последнюю очередь потому, что перед ними вставали примерно одинаковые трудности[257]. Как только издержки, связанные с дальнейшим расширением территории, начали перевешивать преимущества, разумным основанием имперской системы стали мир и порядок, обеспечиваемые ее большой армией и бюрократическим аппаратом, а расходы на их содержание покрывались благодаря взиманию налогов в сочетании с обесцениванием денег.
Почему же тогда империя в восточной части Евразии уцелела, а в западной – нет? Классический ответ состоит в том, что Рим не устоял под усилившимся натиском иммиграции, или, скажут некоторые, вторжения германских племен. Кроме того, в отличие от Китайской империи Риму приходилось бороться с подрывным влиянием новой религии, христианства – еретической секты, отколовшейся от иудаизма и распространившейся по римскому миру стараниями Савла из Тарса (апостола Павла), после того как он сам пережил обращение по пути в Дамаск примерно в 31–36 годах н. э. Эпидемии 160‐х и 251 годов открыли новые пути для этой религиозной сети, потому что христианство не только предлагало объяснение для катастроф, но и поощряло такие действия (благотворительность и уход за больными), благодаря которым выживало заметно большее количество верующих[258]. Римская империя была настоящей иерархией с четырьмя основными общественными сословиями – сенаторами, всадниками, декурионами и плебеями, – однако христианство, очевидно, просочилось на все уровни[259]. И христианство было лишь самым успешным из множества религиозных помешательств, захлестнувших Римскую империю: например, культ бога грома и молнии Юпитера Долихена, зародившийся на севере Сирии, тоже распространился вплоть до Южной Шотландии в начале II века н. э. – главным образом потому, что его стали почитать военачальники в римской армии[260]. Миграция, религия и зараза: к V веку эти передаваемые сетевыми путями угрозы – которые никем специально не вынашивались и не направлялись, а распространялись наподобие вируса, – привели к распаду иерархического строя римского имперского режима, так что от старого порядка остались лишь материальные следы, которым предстояло еще долгие века будоражить воображение европейцев. А в начале VII века из Аравийской пустыни вырвался новый монотеистический культ покорности – ислам, и где‐то между Меккой и Мединой он мутировал из очередной веры с собственным пророком в воинственную политическую идеологию, которая отныне насаждалась огнем и мечом.
Обе монотеистические религии, хотя начало им положили пророки-харизматики, вели себя как сети, распространяясь вирусным способом. Однако, полностью подорвав римский режим, они в итоге сами породили теократические иерархии в Византии и Багдаде. Западное христианство, отколовшееся от восточного православия в 1054 году, попало под отдельный иерархический контроль с укреплением господства римских пап и появлением многослойной системы церковных чинов. Однако в политическом отношении западное христианство сохранило больше сходства с сетью: из руин Римской империи на Западе появилось, словно по законам фрактальной геометрии, множество государств. Большинство из них были крошечными, а несколько – крупными. Большинство представляло собой наследственные монархии, некоторые на деле были аристократиями, а горстка других являлась городами-государствами, где правила олигархия. Теоретически император Священной Римской империи унаследовал власть над большинством этих государств; на практике же после победы папы Григория VII над императором Генрихом IV в борьбе за инвеституру главные трансграничные полномочия в Европе принадлежали именно Святейшему престолу: ведь он распоряжался назначениями епископов и священников и повсеместно распространял действие своего канонического права (возрожденного Кодекса Юстиниана VI века). Светская власть подвергалась значительной децентрализации благодаря системе наследуемых прав собственности на землю и системе военных и фискальных обязательств, известной под названием феодализма. И здесь тоже границы власти определялись законом: гражданским (возникшим на основе римского права) на континенте и в Шотландии и общим (основанным на прецедентах) правом в Англии.
В Китае же из опыта враждующих царств извлекли такой урок: устойчивости можно достичь лишь в единой монолитной империи с культурой (конфуцианством), основанной на принципе сыновней почтительности (сяо). Там не было более высокого религиозного авторитета, чем император[261]. Не было иных законов, кроме тех, что издавал император[262]. Региональная и местная власть контролировалась имперскими чиновниками, которые набирались и продвигались по службе благодаря личным заслугам и знаниям, а для приема на государственную службу существовала система экзаменов, позволявшая молодым людям подниматься по общественной лестнице на основе талантов, а не происхождения. Однако и в западной, и в китайской системах главным препятствием для образования устойчивого государства оставались неистребимо живучие семейные, клановые или родовые сети[263]. Борьба между подобными сетями за распоряжение благами, предоставляемыми правительством, периодически выливалась в гражданские войны, большинство которых правильнее было бы называть династическими поединками.
Век за веком мудрецы размышляли о том, что, по‐видимому, невозможно добиться порядка без установления более или менее абсолютной власти. Они записывали свои мысли на пергаменте или бумаге перьями или кисточками, прекрасно сознавая, что прочитать их сможет когда‐либо лишь незначительное меньшинство их соотечественников, а их единственная надежда на бессмертие сводилась к тому, что, быть может, их сочинения перепишут и сохранят в одной из великих библиотек тогдашних эпох. Однако судьба Александрийской библиотеки, уничтоженной в череде нападений, достигших пика в 391 году н. э., показала, насколько хрупкими были хранилища данных в Древнем мире. А почти полное отсутствие интеллектуального обмена между Европой и Китаем в античную эпоху и Средние века говорило о том, что мир в ту пору был еще очень далек от превращения в единую сеть. За только одним смертоносным исключением.
Глава 12
Первый сетевой век
В XIV веке население всего Евразийского континента выкосила “черная смерть” – эпидемия бубонной чумы, которую вызывала блошиная бактерия – чумная палочка (Yersinia pestis). Инфекция разносилась по упомянутым выше сетям евразийских торговых путей. Сети эти были настолько разбросанными и редкими, а связи между группами поселений настолько немногочисленными, что эта чрезвычайно заразная болезнь расползалась по Азии в течение четырех лет со скоростью менее тысячи километров в год[264]. Но на Европу эта напасть обрушилась с гораздо большей силой: там вымерло около половины всего населения (и в том числе, возможно, три четверти населения Южной Европы). Азия, можно сказать, еще легко отделалась. Нехватка рабочей силы сказалась особенно остро на западном крае, что привело к значительному росту реального заработка, особенно в Англии. Однако после 1500 года главным институциональным различием между Западом и Востоком Евразии стало то, что на Западе сети были относительно свободнее от господства иерархий, чем на Востоке. На Западе так и не возродилась монолитная империя. Там сохранилось множество отдельных и часто слабых княжеств, а единственными напоминаниями об имперском могуществе Древнего Рима оставались папство и рыхло устроенная Священная Римская империя, тогда как истинной наследницей императорского Рима считала себя Византия. В одной бывшей римской провинции, Англии, власть монарха была настолько ограниченной, что с XII века столичные купцы свободно занимались собственными делами через самоуправляющееся объединение. На Востоке же единственными важными сетями были семейные группы: там выше всего ценились кровные узы. В более индивидуалистичной Западной Европе, как было доказано, гораздо большее значение приобрели иные формы объединений – братства, являвшиеся таковыми лишь по названию[265].
Однако следует соблюдать осторожность и не относить к слишком далекому прошлому то “великое расхождение” между Западом и Востоком, которое оставалось самой поразительной особенностью экономической истории между концами XV и XX веков[266]. Если бы народы Западной Европы не покидали собственных берегов, или если бы монгольские завоеватели в XIII веке забрались подальше к западу от Венгерской (Среднедунайской) низменности, то европейская история могла бы протекать совершенно иначе. Живучесть семейных связей в Европе XIV века хорошо иллюстрирует возвышение во Флоренции рода Медичи, которые мало-помалу заняли уникальное положение посредников в сети знатнейших флорентийских родов, воспользовавшись, к собственной выгоде, разнообразными структурными дырами в этой системе (см. илл. 10)[267]. Своим восхождением Медичи были отчасти обязаны стратегическим брачным союзам (заключавшимся даже с членами таких враждебных их семье родов, как Строцци, Пацци и Питти): здесь, как и в большинстве обществ до начала Нового времени, важнейшей из сетей оказалось генеалогическое древо[268]. Однако в период, последовавший за Восстанием чомпи (1378–1382), проникновение банкиров вроде Медичи в ряды флорентийской политической элиты обернулось важным экономическим новшеством – переносом внутренних цеховых методов гильдии менял (Arte del Cambio) на международный уровень, где до тех пор заправляли торговцы тканями (Arte di Calimala), и появлением товарищества как основы финансового капитализма нового типа[269]. С началом правления Медичи в 1434 году на свет появился “человек Возрождения”: разносторонне одаренный эрудит, хорошо разбирающийся в финансах, торговле, политике, искусстве и философии, – “и делец, и политик, и патриарх, и интеллектуал-эстет, всего понемногу”[270].

Илл. 10. Сеть Медичи: династическая стратегия, которая привела к господству одной семьи над Флоренцией XIV века.
Глава 13
Искусство ренессансной сделки
Хотя Бенедетто Котрульи менее известен, чем Медичи, его пример наглядно иллюстрирует, по каким путям шло развитие европейских сетей в эпоху Возрождения и как постепенно складывалось новое космополитическое сословие связанных между собой личностей. Возникает соблазн назвать сочинение Котрульи “Искусство торговли”[271], написанное в XV веке, аналогом книги Дональда Трампа “Искусство сделки”. Однако Котрульи ничем не походил на Трампа. Давая купцам множество мудрых советов, Котрульи среди прочего отговаривает их вмешиваться в политику. “Нехорошо купцу иметь дело с судами, – пишет он, – а главное – встревать в политику или в гражданское правление, ибо это опасные поприща”[272]. В отличие от Трампа, который упивается словесной грубостью и кичливо похваляется собственным богатством, Котрульи был высокообразованным гуманистом, и в описанном им идеальном купце воплотились классические достоинства члена городской общины и гражданина, какими их мыслили себе древние греки и римляне и какие потом, в пору Ренессанса, заново открыли итальянские гуманисты.
В молодости Котрульи даже учился в Болонском университете, но, как он с грустью замечает, “по велению судьбы и неудачи, в разгар самых приятных философских занятий, меня оторвали от учебы и сделали купцом, и я вынужден был заняться торговлей, оставив отрадное ученье, коему я был предан безоглядно…”[273]. Котрульи вернулся к управлению семейным делом в Рагузе (нынешнем Дубровнике), и там его неприятно удивил низкий интеллектуальный уровень его нового окружения. В отсутствие всякого специального образования для купцов те довольствовались лишь “недостаточной, плохо устроенной, случайной и устаревшей” системой обучения своей работе. “Я преисполнился сострадания, мне больно было видеть, что столь полезное и необходимое ремесло попало в руки столь распущенных и неотесанных людей и те занимаются им без всякой строгости и порядка, не соблюдая или искажая законы”[274]. Во многом книга Котрульи стала не только попыткой повысить стандарты обучения купцов, но и поднять престиж самой торговли. “Искусство торговли” известно ученым прежде всего как самая ранняя работа, где сформулирована система двойной бухгалтерии, она написана за тридцать лет до более знаменитого трактата Луки Пачоли De computis et scripturis[275] (1494). Наиболее примечательное в сочинении Котрульи – широта охваченных в нем предметов. Автор предлагает не только практические советы о счетоводстве. Он излагает, по сути, целый образ жизни. Он написал не сухое руководство, а проповедь, обращенную к собратьям купцам, где призывает их стать подлинно деловыми людьми Возрождения.
А еще книга Котрульи дает современному читателю замечательную возможность одним глазком увидеть давно исчезнувший мир. Бенедетто Котрульи и его брат Микеле родились в Рагузе и занимались ввозом каталонской шерсти, а также красителей, расплачиваясь с поставщиками балканским серебром или чаще всего переводными векселями. Занимаясь делами, он бывал в Барселоне, Флоренции, Венеции и, наконец, в Неаполе, где жил с 1451 по 1469 год. Это была по‐настоящему средиземноморская жизнь; к тому же Котрульи достаточно хорошо знал море и написал о нем другую книгу – De navigatione[276], которую посвятил венецианскому Сенату. Еще он служил королю Фердинанду II Арагонскому, состоя послом в Рагузе и главой Монетного двора в Неаполе. В конце XV века жизнь таила немало рисков даже для преуспевающего купца. В 1460 году Котрульи предстал перед судом по обвинению в незаконном вывозе слитков. Впрочем, по‐видимому, его признали невиновным. “Искусство торговли” он написал в деревне Сорбо-Серпико, где спасался от вспышки чумы, поразившей Неаполь. Умер Котрульи в 1469 году в возрасте пятидесяти трех лет.
И все‐таки Котрульи хорошо прожил свою жизнь. Пускай он и скучал по библиотекам Болоньи, он гордился своим коммерческим призванием. Собственно, некоторые части его “Искусства торговли” читаются как апология купечества, попытка отвести от купцов обвинения – например, в ростовщичестве, алчности, скупости, – которые в те времена часто бросали им религиозные фанатики. По словам Котрульи, его “изумляло, что многие богословы осуждают торговлю – это полезное, естественное и совершенно необходимое занятие для ведения человеческих дел”[277]. (В ту пору, когда ростовщичество было еще вне закона, он дал осторожное определение ростовщикам: это “люди, которые, когда наступает срок выплаты долга, продлевают его не без выгоды для заемщиков, неспособных расплатиться немедленно”[278].) Котрульи пропагандировал скрупулезное ведение счетов, а еще он одним из первых высказывался за диверсификацию как способ управлять рисками и снижать их. Он описал воображаемого флорентийского купца, который вступает в разнообразные деловые отношения с купцами из Венеции, Рима и Авиньона, одну часть своих капиталов вкладывает в шерсть, а другую – в шелк. “Приложив надежным и верным способом руку к столь многим сделкам, – замечает он, – я не извлеку из них ничего, кроме выгоды: ведь левая рука будет помогать правой”[279]. И еще: “Никогда не рискуй слишком большой суммой сразу, на суше ли, на море ли. Как бы ты ни был богат, не вкладывай больше пятисот дукатов в один судовой груз, а если речь о большой галере, то не больше тысячи”[280].
Котрульи являлся узлом в зарождавшейся торговой сети кредита и дебета, потому‐то он и осуждал “тех, кто ведет лишь счета в один столбец, то есть записывает лишь, сколько причитается им самим, а не сколько другие ожидают от них получить”. Таких людей он называет “худшими из купцов, подлейшими и несправедливейшими”[281]. “Купец, – писал Котрульи, – должен быть самым разносторонним из людей, человеком, который должен иметь больше всего дел – больше, чем его сотоварищи, – с самыми разными типами людей и общественными сословиями” (Курсив мой. – Н. Ф.). Следовательно, “все, что только может знать человек, может оказаться полезным для купца”, в том числе космография, география, философия, астрология, теология и право. Иными словами, “Искусство торговли” можно считать еще и манифестом для нового общества объединенных в общую сеть эрудитов.