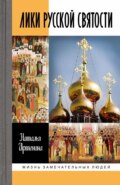Наталья Иртенина
Русь на Мурмане
– Федор!.. Как ты мог… ты обманул нас… Кто теперь будет покоить мою старость?.. Твой отец ныне помирает. Хочет проститься с тобой. Возвращайся домой, не медли!
– Матушка… – пролепетал инок. – Как ты здесь очутилась?
– Приплыла за тобой. Пойдем, Федор! Ты голоден и продрог…
– Я больше не Федор, матушка…
Монах осекся, скользнув взглядом по берегу моря: на прежнем месте колыхался карбас.
– Матушка, а перекрестись?..
– Возвращайся домой, Федор! – глухо отозвалась она. – Не то прокляну! Материнское проклятье всюду настигнет, не спасешься от него, не отмолишься.
Феодорит смотрел ей в глаза. Там стояла двумя глыбами тяжелая, черная ненависть.
– Почему ты ненавидишь меня, дух нечистый?
То, что по видимости казалось матушкой, издало злобное шипение:
– Потому шшто не могу вззять тебя! Не даешшься…
Видение растворилось в холодном прозрачном воздухе.
Над островом потянуло ветром-морянкой. В полуночной стороне край моря вызолотила огненная макушка солнца. Феодорит, измученный трудной ночью, повалился на свое моховое ложе.
* * *
Гром разломил его сон пополам. Одурело мотая головой, инок выполз из-под навеса скалы, подобрался к обрывистой кромке угора. Открывшееся зрелище поразило его небывальщиной.
Мешанина людей на берегу. Они бежали, падали, топтали упавших, налетали друг на друга, бились. Крики, кличи, рев. Далекий звон металла. Бердыши секли свеев, будто траву. Рогатины протыкали шевелящийся полог обрушенного шатра, самого крупного из всех. Посреди лахты медленно зарывалась острым носом в воду шняка, еще одна прилегла набок. Саженях в двадцати за ними кутались в облачка дыма от пушечных выстрелов два русских насада. Третий проник в лахту, но дым над ним успел развеяться. Пущенные с него ядра своротили опоры свейского шатра, взорвали ужасом пробудившийся вражеский стан. Пушечный гром дал отмашку к бою пешему ратному отряду, высадившемуся на остров загодя. Насад в лахте разворачивался на веслах, чтобы в упор расстреливать шняки. Череда нескольких выстрелов превратила раздерганную сумятицу воплей на берегу в один кромешный гулкий вой.
Феодорит во все глаза смотрел на побоище. Русских ратников было не больше, чем свеев, скорее меньше. Но варяги были смяты и обезумлены внезапностью предутреннего нападения. Они чаяли себя в безопасности на островах и едва ли сторожились все дни, что стояли здесь.
Нынче, в свой седьмой день на Кузовах, Феодорит ждал какого-то исхода, но тоже не мыслил, что будет так: громовито, раскатисто, стремительно, яростно. Свеи сбивались в жалкие горстки и принимали с бою лютую смерть от сабель, чеканов, кистеней. Светлая кромка прибоя у стана заалела от крови.
Насады, отстреляв запас ядер, неторопливо приближались к разбитым, лежащим на воде вповалку, будто загульные пьяницы, шнякам.
Инок спустился по едва натоптанной тропке ниже. Он стоял в рост, не скрываясь, на мшистой плеши. Его могли принять издали за чужака и снять стрелой из лука. Он не страшился этого. Бойня на берегу заставила его страдать. В ней, как в капле воды, содержалось все море людских страстей. Как в малой персти – вся горечь взбунтовавшегося земного праха.
Он перебрался еще ниже по голым каменным панцирям с ёрником в щелях. Здесь уже слышался гул стонов, хруст ломаемой человечьей плоти.
Какому-то свею удалось вырваться из тисков бойни. Он бежал наверх, карабкался, падал на четвереньки, цеплялся и опять бежал. Вдогонку пустился ратник в стеганом кафтане и шапке – некольчужный, бесшлемный, с одной только саблей. Узнав его, Феодорит порывисто бросился навстречу обоим.
Варяг-беглец выбился из сил и пал ничком меж кустов цветущего вереска. Преследователь, бежавший быстрее, как горный зверь, в несколько мгновений настиг его и занес для удара клинок.
– Стой, Митрофан! Не убивай!
Феодорит остановился поодаль, громко дыша. Затверделое лицо с тяжелым взором яснее ясного говорило: он готов безоружным броситься на мальчишку, если тот сделает неверное движение.
– Тебе что с того? – грубо крикнул отрок. – Убирайся, чернец. Это не твоя битва.
– Возьми его в плен. У него же нет оружия.
– Вон там его меч, – Митроха презрительно кивнул под гору, – обронил, когда скакал, как заяц.
Свей пошевелился и опасливо перевернулся набок. Увидев мальчишку, а сзади еще одного, сел и, торопясь, заговорил на своем каркающем языке. Тыкал пальцем в грудь, показывал на разгромленный стан, где затухало побоище, отвергающе тряс головой. Молил Митроху взглядом.
– Видишь, он говорит, что не хотел плыть сюда, – вольно перетолмачил инок.
– Тошно мне от твоей жалостливости, Федорка, – процедил Митроха. – Веревка есть? Принеси. Вязать его буду.
– Я быстро!
Феодорит заспешил к убежищу наверху.
Когда он вернулся, Митрофан стоял над мертвым телом и задумчиво обтирал саблю пуком травы. Горло варяга густо кровянело.
– Зачем? – Инок пятился, непонимающе глядя на труп. – Ты…
– Не кудахчи, Федорка. – Мальчишка зло сплюнул под ноги и обернулся к берегу. Резко выбросил вперед руку с клинком. – Смотри, это я сделал! Я прорвался через туман и скалы, чуть не сдохнув там. Я привел рать. Я отомстил за Хабара. А ты мне говоришь – зачем? Дядька Иван, сотенный голова, запретил мне вылезать с лодьи. Да что мне его слова? А тебя я вовсе ничем зову и ни во что кладу.
Он обошел кругом мертвеца и запрыгал по камням вниз.
Где-то еще добивали остатки свеев, но бой уже прогорел до дна. Ратники выносили своих раненых, сгоняли в одно место взятых в полон, подбирали оружие, рубили клинками уцелевшие свейские шатры.
Бешено стенали над лахтой чайки.
7
Кемская волостица кипела. Собирались разрозненные части рати. У пристаней, вдоль берегов, вокруг Лепострова, обтекаемого гремящей на порогах Кемью-рекой, копились карбасы, теснились двинские насады. Чистился, проверялся оружейный снаряд. В деле на Кузовах побывала лишь треть войска. Остальные, ревнуя, с особым тщанием отыскивали на своей оружейной оснастке, извлеченной из лодий, следы порчи – мало ли что могло завестись на металле от морского рассола. Кемским суровым бабам-поморкам и неохотливым на гульбу, но бойким девкам отбою не было от молодецкого задора, смехов и подходов.
Князь-воеводы толковали с корельскими мужиками-вожами, знавшими речные долгие пути как линии у себя на ладонях. Раскладывали на столах пергамены, чертили, водили пальцами, скребли в бородах, хмурились. Кореляков сменяли поморские люди, доставали из-за пазух свои рукописные мусоленные книжечки с записанными морскими ходами. Сыпали лопскими, корельскими и новгородскими именами берегов, губ, островов, наволоков, луд, салм и скал, которые звались тут пахтами. Рассуждали, где можно пересечь путь свеям, где отрезать их, где прижать к скалам или бросить на подводные корги. Слушали промысловых мужиков, неурочно прибежавших на лодьях-соймах и карбасах из становищ в Кандалакшской губе. Те жаловались на беспромыслицу из-за долгой непогоди, вязких туманов, взводней. Свеев никто не видал.
На последнем совете князья-воеводы порешили, что нужно самим идти к Кандалакше в полной силе и искать встречи с неприятелем.
Митроха после возвращения с Кузовов будто выпал из всей этой бодрой суеты. К разгадке своей тайны он так и не приблизился, и она все сильнее жгла ему грудь, горячила ум, запекала на огне сердце.
Как-то, шатаясь меж двор, он наткнулся на груду ветоши у жердяной изгороди. Куча пошевелилась, обнаружив красную рожу, остро поглядевшую на него из-под длинных волосяных сосулек. Ее обладатель сел, притулясь к жердине, и вся ветошная груда оказалась диким лопарем в оленьих кожах. Митроха проявил интерес.
– Ты, что ли, лопин, который к воеводе приходил?
– Я лопин, ходил ко княза, – охотно согласился мужик.
Отрок опустился перед ним на корточки.
– Что твой хозяин, сильный колдун? Неведомое знает?
– Знаткой, знаткой, – закивал лопарь. – Пудзэ-Вилльй много ведат. Княза-воевода не поверил, прогнал лопина.
– Чего ж ты тут валяешься, а не вернулся обратно? Боишься своего колдуна?
– Лопин не надо обратно. Пудзэ-Вилльй знат, что княза его не послушал.
– Откуда он знает?
Мужик сморщился в довольной и лукавой ухмылке.
– Ты – тайа. Не саами. Тайа не поймет. Только олмынч-саами поймет. Человек из лопи. Княза не верит лопину, но Пудзэ-Вилльй все равно поднял погоду. Воины чуди не уйдут от грома и железа рууш.
– Ты что, – Митроха наморщил лоб, – говоришь, будто это твой колдун наслал проклятый туман на море?
– Пудзэ-Вилльй хочет помогать большой княза рууш, – мелко засмеялся лопарь, – хочет погубить чудь.
– Ах ты. – Отрок замахнулся кулаком на тщедушного мужика, но бить не стал. – Меня этот туман чуть на скалы не насадил!
Он встал. Какое-то время раздумывал. Затем пнул лопаря сапогом.
– Отвезешь меня к своему колдуну. Где твоя лодка?
Лопин кряхтя поднялся и без слов заковылял по улице, косолапо загребая дождевую грязь остроносыми каньгами.
* * *
В веже было полутемно, жарко от огня и смрадно. Немного света давала дыра в самом верху лопского жилья, вытягивавшая дым. К дыре сходились высокие жерди, на которых были натянуты пласты березовой коры, снаружи плотно обложенной мхом. По обе стороны от очага, горевшего в глубине вежи, были навалены еще шкуры, служившие ложем и сиденьями. Над огнем на высокой перекладине висел котел с водой.
Кожаная занавесь входа была глухо закрыта. Митроха сидел боком к ней, вытянув ноги. Против него, другим боком ко входу сидел нойд Пудзэ-Вилльй. Его короткие ноги лежали в переплет вдоль Митрохиных. На коленях он держал большой продолговатый бубен. Светлая натянутая на основу кожа была разрисована красной древесной краской: две линии посередине разделяли небесные светила, богов в человечьем обличье, зверей. По нижней половине бубна вольно бродили медведи, волки, олени, бобры, зайцы, птицы, плавали рыбы.
Нойд размеренно бил в бубен колотушкой из оленьего рога и тянул песню, то тягучую, то резко подскакивавшую. Митрохе от пения колдуна было мерзко. К тому же старый пень, растрескавшийся морщинами и прокоптившийся в дыму, не сводил с него глаз. Будто насквозь протыкал.
Митроха скосил взгляд на гривну, слабо блестевшую на груди поверх рубахи.
– Смотри перед себя! – прервав песню, сердито прикрикнул нойд. – Ты должен видеть, что придет.
Мальчишка послушно уставился на него. Со лба и по телу катили капли пота, во рту была сухая горечь, одна нога занемела. Он не смел шелохнуться. Перед тем как начать киковать, нойд велел ему исполнять все в точности, иначе обещал отправить восвояси ни с чем. Митрохе пришлось согласиться на все. Для начала колдун накормил его оленьим мясом, которое ели по-собачьи: встав на карачки и таская куски с плоского деревянного блюда ртом, без рук. Затем усадил в кережу – санки, похожие на маленькую лодку, поставленную на один полоз и подстегнутую упряжью к оленю. Сам нойд сел в другую кережу. Лопин-слуга привязал Митрохиного оленя позади упряжки Пудзэ-Вилльй. Нойд гикнул, ударил своего оленя длинной палкой – и они понеслись по мхам, травам, кочкарникам. Несколько раз Митроха чуть не вываливался из шаткой лопской повозки, пока не приспособился удерживаться при помощи ноги, выставленной из кережи наружу. Пудзэ-Вилльй блажил дурным голосом – Митроха не сразу догадался, что это песня.
После полоумной скачки сидение на пороге вежи под новую, тягостную песню нойда уже не вызывало желания вопрошать. Зато потянуло в сон. Звуки бубна растекались по телу истомой, будто наполняли плоть жидким, сразу застывавшим свинцом.
Наконец он увидел. Из полога вежи, не затронув шкуру, появилось нечто. Очертаниями оно походило на человека в кожаных одеждах коротким мехом наружу. Перешагивая через ноги Митрохи и нойда, оно повернулось и посмотрело на отрока. Из горла мальчишки выдавился сиплый клекот внезапного страха. Передняя часть головы призрачной твари была вытянута темной звериной мордой, похожей на собачью или волчью. В круглых глазах светились желтые огоньки.
Дух направился вглубь вежи, обогнул очаг и вышел из лопского жилища через заднюю стенку.
Нойд перестал бить в бубен и оборвал песню. Митроха понял, что Пудзэ-Вилльй тоже все видел.
– Тонто пришел на твой зов, – довольный, сказал нойд. – Духи выбрали тебя.
– Я никого не звал. – Митроха все еще переживал ужас от видения.
– Я звал за тебя. Тонто разрешили давать тебе знание и зрение. Тонто-чэрм посмотрел на тебя. Ты станешь большой нойд.
Пудзэ-Вилльй поднялся и ушел к очагу. Заглянул в котел. Принялся что-то искать позади каменки, стоя на коленях и бормоча. Перебирал кожаные свертки, берестяные туесы.
Митроха не придал значения последним словам колдуна. Он встал и в охотку потянулся, оживляя задеревеневшее тело.
– Дай мне это и садись.
Нойд протянул руку к груди отрока. Трепетно приняв гривну, он склонился над ней у огня, внимательно разглядывая. Митроха уселся на шкуры.
– Пудзэ-Вилльй слышал о золотом сейде бога Каврая от старых нойд. Они уже не были нойдами, когда рассказывали, у них выпали зубы. Теперь они мертвые. Пудзэ-Вилльй не знал, что увидит своими глазами золотой сейд и будет сам держать его. Старые нойды говорили, что его принес в землю Саамеэдна человек рууш. Он пришел из страны Рушш. Его имя было Хабба.
– Хабар! – Митроха задыхался от волнения.
– Хочешь увидеть его? Ты сможешь. Сайво покажут тебе.
Нойд с неохотой вернул гривну. Затем раздул огонь сильнее, бросил в котел что-то темное и сыпучее, стал помешивать. Вежа скоро наполнилась терпко пахучим паром.
Из берестяного ковша нойд пил варево первым, только потом зачерпнул для Митрохи. Встав посреди жилища, Пудзэ-Вилльй снова начал колотить в бубен. Промежутки между ударами сперва были долгими. В них уместилась короткая песня нойда, похожая на отрывистый рык, а потом начался рассказ. Или не рассказ.
Митрохе казалось, что он слышит слова колдуна не ушами, как полагается, а глазами. Он видел то, что происходило много лет назад, будто вспоминал. В уме вставали живые видения, как во сне, только отчетливее, яснее. Вежа исчезла, вместо нее был лес и в нем поселение, похожее на пустыннический монастырек. Много людей, ратников. На земле лежат убитые с оружием в руках. Все в рубищах, из-под которых видны дорогие одежды. Горящая сильным черно-рыжим пламенем церковь. Человек с перевязанной головой и побитым лицом. Шатаясь, он идет в лес. Там еще один мертвец, со сломанной шеей. Раненый снимает с него золотую гривну и прячет на себе.
Сразу после этого – море, скрипящая лодья, визги чаек. Но лодья уже не лодья, а сумеречная вежа. В ней кругом сидят, поджав ноги, лопские люди. Среди них тот же человек, взявший у мертвеца в лесу гривну.
«Хабба хотел, чтобы нойды забрали у него силу богов. Он говорил: ему тяжело нести ее в себе. В стране Рушш такие, как он, прокляты, и бог рууш, которого зовут Крыст, отверг его. Нойды не сказали ему, что силу богов нельзя отнять. Если боги выбрали его, он будет нойд рууш, пока не потеряет зубы. Он показал им золотой сейд. Нойды не взяли сейд.
Они были злы на людей рууш, которые пришли в землю Саамеэдна и привели своего бога Крыст. Нойды решили соединить силы своих ноайде-вуонгга и духов, которые служили Хаббе, чтобы прогнать людей рууш и их бога. Они принесли в жертву богам много оленей, самых жирных, сальных важенок и молодых хирвасов. Возле сейда Каврай-олмака они пели песню-заклинание иойике и говорили с духами из страны Яммеаймо, страны мертвых. Хабба был с ними. Он не знал, о чем нойды просили духов. Он думал, они просят богов сделать как он хотел, забрать у него ноайде-вуонгга. А они просили, чтобы духи привели на людей рууш и на их сийты у моря воинов чуди.
Хабба остался жить с ними. Скоро на Терья-рынт пришла морским нагоном чудь. Она сожгла сийт рууш и убила жрецов бога Крыст. Тогда нойд сийта, где жил Хабба, пришел к нему и рассказал о нагоне чуди. Он сказал, что Хабба сильный нойд и его ноайде-вуоннга могучие духи. Без них нойды не смогли бы навести чудь на людей рууш, потому что бог Крыст тоже могучий. Хабба стал зол на нойдов. Он взял свое оружие и пошел воевать против чуди. Он был смелый рууш. Хабба убил много чуди, а чудь убила его. Потом она уплыла через море, на великую реку Вин. Там чудь тоже сожгла сийты рууш.
Хаббу нашли жрецы рууш, которые убежали от чуди. Они помирили его с богом Крыст и похоронили».
В видения вновь проникли звуки бубна. Удары теперь были быстрыми, резкими, торопились один за другим. Они были похожи на черный водоворот, в который затягивало Митроху. Он хотел закричать, но не услышал самого себя. Он стал цепляться за черные смолистые и такие же липкие, как смола, стены воронки, куда его засасывало. Это помогало ненадолго. Потом он срывался и погружался в удушливый деготь еще глубже.
Через очень долгое время, за которое он успел два раза умереть, его подхватило, как будто кто-то поймал за ворот, и куда-то швырнуло. От страха Митроха ужался до размеров маленького, жалко пищащего комка. Он видел перед собой гигантский плавник на спине огромной рыбины. Он сидел на рыбьей спине и куда-то двигался на ней, как на коне. По сторонам проплывали морды, лапы, длинные птичьи ноги и клювы.
Его бил озноб. Он кричал, отбивался кулаками от плоских рыл, тыкавшихся в него тупыми холодными носами и мокрыми пастями.
Видения не кончались.
Он лежал на черной земле под красным светилом, не похожим ни на солнце, ни на луну. То с одной стороны, то с другой из светила вырастали острые углы, иногда они вылезали все вместе, образуя багровый пятиугольник. Вокруг Митрохи ходили туда и сюда лопские духи тонто то ли с собачьими, то ли с волчьими мордами. Потом среди них появился другой. Он был крупнее и страшнее – точь-в-точь оживший истукан с Кузовов. На плечах сидел валун с отверстиями глаз и каменной складкой рта, на макушке у него рос мох. От его поступи тряслась черная земля. Он поднял Митроху и с силой бросил наземь. Снова поднял и обрушил ему на голову удар каменного кулака.
Потом на Митроху насели тонто. Они ломали его тело, вывихивали руки, выбивали суставы коленей, крушили ребра, выворачивали шею. Один тонто залез когтистой рукой прямо в живот, ковырялся во внутренностях, забирался выше, к сердцу.
Митрохе было очень плохо. Самому себе он казался мертвецом, вставшим из могилы.
Наконец его оставили в покое. Он хотел умереть по-настоящему, и должен был – после всего, что с ним сделали. Но почему-то не умирал. Все чувства были обострены до предела, до невыносимой боли в душе.
Он видел вежу Пудзэ-Вилльй и себя, лежащего на шкурах и под шкурами. Колдун выхаживал его. Поил из берестяного ковша зельем, натирал медвежьим жиром грудь, живот и спину, где вспухли багровые нарывы. Сквозь изголовье из свернутой оленьей кожи Митроха видел лежащую там гривну.
Потом он увидел совсем другое. Лодейную рать, идущую на море. И другую, из свейских шняк. Обе рати сошлись в большой губе. По свеям ударили пушки, пробивая ядрами борты и днища. На вражьих судах пушечного наряда не было. Корабли стали сближаться, сходились бок о бок, ломая весла. Переброшенные якоря сцепляли их намертво. Московские, двинские, устюжские ратники, как морские бурные валы, хлынули на вражьи шняки. Завязалась сеча. В море летели раненые и убитые, днища покрывались лужами крови. Мертвые обвисали на бортах, снастях. Продырявленные ядрами шняки уходили под воду.
Князь-воеводы взяли в плен три корабля свеев и около сотни людьми.
Вместе с ними Митроха полетел на попутном ветре в Кемь. Но тут его сдернуло с воздусей и опять унесло в черную страну под багровым пятиугольным солнцем. Там его снова мучили духи тонто. Деловито разделывали на части и пересобирали все тело из отдельных кусков, через глазницы забирались к нему в голову. Под их беспощадными руками-лапами Митроха был тряпичной куклой, глядящей на мир глазами из стеклянных пуговиц.
* * *
Плеск волн и покачивание на морской глади показались блаженством после того ада, в котором его так долго держали. Лицо щекотало горячими лучами настоящее, а не преисподнее солнце. Митроха с усилием разлепил набухшие веки. Над ним было синее высокое небо и паслись белоснежные облачные коровы. С высоты срывались чайки, падали на море и взмывали с рыбешкой в клювах.
Он ухватился за борт карбаса, попытался сесть. Тело отозвалось страшной ломотой и болью. Отрок со стоном лег.
– Что со мной? – Позади его головы раздавались удары весел о воду. – Где я?
– Тайа плывет на Кемийок. В Кемску. От Поньгомы уже близко. – Митроха узнал голос лопина, прислуживавшего колдуну Пудзэ-Вилльй. – Хозин велел везти тайа обратно, чтоб он не умер в его кёдд. В его веже. Если рууш умрет в веже Пудзэ-Вилльй, другие рууш узнают и придут к мой хозин. Они убьют Пудзэ-Вилльй, заберут его оленей и сожгут кёдд.
– Что он со мной сделал, твой проклятый колдун? – с хрипом выдохнул отрок. – Отравил?! Коли останусь жив, сам приду к нему, убью и спалю вежу. И тебя прирежу, собака лопская.
– Э-э, зачем тайа ругат лопина и его хозина? Ты ходил к Пудзэ-Вилльй знать то, что не положено людям, только духам. Пудзэ-Вилльй сделал, как ты хотел. Твой дух ушел в страну Яммеаймо и был там долго. Пудзэ-Вилльй помогал, чтобы ты вернулся.
Глаза все больше наливались тупой болью от разлитого вокруг света. Да и открыть их полностью не получалось. Митроха поднес к лицу руку и ощупал разбухшие глазницы.
– Что со мной? – в холодном страхе переспросил он.
– В тебя входила сила бога. Если не умрешь, станешь сильным и злым кебуном. Духи тебя выбрали.
– Я не вашей идольской веры! – выкрикнул он из последних сил, чувствуя, как вновь накатывает темень. – Что мне лопские бесы?!
Рука беспокойно шарила на груди, под кафтаном. Гривна оказалась на месте. На мгновенье это успокоило, но потом просверкнула мысль: должно быть что-то еще. Он не мог вспомнить. Сознание заволакивалось пепельным дымом. Из ниоткуда вновь стали выныривать страшные морды, расти и исчезать, как мыльные пузыри. Это мельтешение обдало его новым ужасом.
Почти уйдя за грань света, он вспомнил, чего не смог найти на привычном месте: серебряного креста. Чертов колдун украл его тельник, хотя не тронул золотую гривну. Бессильный страх обрушил мальчишку в черную пропасть…
Душа Митрохи была как морская волна в то мгновенье, когда кроткая отливная вода замирает, становится совсем неподвижной перед тем, как вздохнуть начинающимся приливом. Поморы называли это мгновенье полного затишья куйпогой – опустошенность отливной волны, совершенное бессилие, уже чреватое новой мощью, новой жизнью.
Душа вздохнула, наполнилась приливной силой и устремилась к оставленным берегам.
– Очнулся-от, раб Божий?
Митроха узрел наклонившегося над ним попа, длиннобрадатого, с веселыми морщинами у глаз.
– На-ко, теперь, знать, пойдешь на поправку, беспременно.
– Где я? – прошептал Митроха.
– В Кемской. Лопин из Чупаньги тебя привез да сдал старосте. А тот мне. Анде, брат, задал ты нам небывальщину. Тут на море живешь, дак про всяко быванье слышишь, а то сам видишь. – По выговору поп был низовский, не из новгородцев, но поморский обычай в речи перенял. – А про такое-то у нас не слыхано было. Чтоб сперва пропал, ровно в олений мох провалился, а после в таком-от виде из моря выплыл. Видал бы ты себя. Ноне-то ужо получше, а было… – Поп покачал кудлатой головой. – Заглазья черные, взбухшие, лик белый, мертвячий. Язвами-от весь изошел. Какая напасть тебя поедом ела – ума не приложу. Гадали-мерекали – не моровая ли? Кемляне от меня спопервоначалу стороной ходили, сторожились. После дурные бабы баять стали, будто на тебя-де лопяне стрелье пустили. Кудес такой, колдовство лопское. Прострелит человека – и уж то ли скорчит, то ли с ног повалит, а не то в землю уложит.
– А дядька где же? – Отрок взволнованно задвигался на ложе, пытаясь подняться. – Иван Никитич?
– Ушел твой дядька. Со всею ратью на Каяно-море побежал.
Митроха отчаянно простонал и обмяк.
– Свейских людей-от побили в губе Кандалухе. Полоняников до Колмогор на взятых шняках снарядили. Да и пошли в карбасах по Кемь-реке. Много-от карбасов, воды чистой не видно было от них. На порогах карбаса вздынули, а дале поплыли. На Кеми у нас порогов да падунов непосчитано. А за Кемью по другим рекам да по озерам, а где и волоком. Еще, должно, и не дошли до той Каяни.
Поп принес в избяную клеть большую кружку с варевом, от которой исходил густой рыбный дух. Взбил на постели подголовье, подтянул повыше совсем слабого Митроху и стал кормить с ложки.
– Разевай-ко рот пошире, раб Божий. Попадья-то моя нонеча роды принимает, так ужо я тебе заместо нее кормилкой побуду. А ты мне поведай-от, что за почесуха тебя к лопи понесла аж за полморя?
Митроха послушно глотал горячую уху и молчал. Поп настырно глядел.
– Ну не хошь, не говори, раб Божий. Да мнится мне, ты не своим товаром торговать принялся.
– Я государев служилый человек, а не купчина, – охмурел Митроха.
– Ну, а я чего баю-то? То присловье такое, смекай. Не к своему делу ты пристал, государев человек, к лопянам-то ездючи. Оберег вон идольский на себя повесил. Ну да твои грехи, твое покаянье.
Митроха схватился за белую сорочицу на груди.
– Да не зри волком-то, раб Божий. В ларь сложил твое золотишко, чтоб не давило тебе на душу… Молебны в храме по тебе служил. Господь-то милостив.
Вместо гривны отрок нащупал деревянный тельник на нитке. Покончив с ухой, он расслабленно оплыл на перине.
– А что ж дядька Иван Никитич? Так и ушел, обо мне позабыв?
– Чего ж забыв? Ты на дядьку свово не греши, раб Божий. Обиду-ту не надувай, как лягуху на соломине. Искали тебя, берега обшерстили все. Мерекали, будто утоп ты. Палицын твой наказал старосте искать бессрочно, тело аль живого. А ждать-то ему недосужно было. Теперь тебе его ждать… На-ко, а ты и спишь уже. Ну, дородно, спи.
Впервые за долгое время в Митрохин сон не вторгались видения.
…Через несколько дней он начал выходить из дому. Спускался с высокого крыльца, садился на лавку под окном и смотрел на узкий рукав Кемь-реки, буйно скачущий по порогу, омывающий с краю каменные кости Лепострова. Дом священника стоял на юру. С такого гляденя хорошо видны были расставленные вдоль дальнего берега вешала с сетями на просушке, амбары для вытопки сала морского зверя, становые избы, скалы. А за всем этим еще одно поморское море – зеленое чащобное. Тайбола уходила за окоем, как за край земли…
Язвы на тулове заживали, отпадали сухие корочки. Ушла чернота с глазниц. Тело наполнялось свежей силой. Митроха принуждал себя накрепко забыть все, что было в веже лопского нойда и в черной стране мертвых. Но однажды понял, что бесследно эта бывальщина, приключившаяся с ним, не исчезнет. Что-то осталось навсегда, как некая метина.
Это было видение, пришедшее наяву, когда он сидел во дворе дома. Думал про то, что так и не узнал у колдуна, о чем молчат знаки тайнописи на гривне. Внезапно закружило голову, и река, дальние амбары, тайбола поплыли. Вместо них встало совсем иное. Митроха будто летел медленно в небе и зрел внизу две светлые ленты рек, сходящихся углом. В месте их слияния раскидало по берегу лопарские шалаши, крытые оленьими шкурами. Из речных объятий вода текла широко, привольно. Берега морской губы расходились все дальше, их резали поперек губы помельче, лахты, крутые щельи, длинные изгибистые скалы, раскрашенные в зелень. Одна скала остановила на себе взор Митрохи. На ее плоской вершине темнела жирная каменная туша лопского сейда. Неведомая сила придала ему грубое подобие сидящего человека с низко опущенной головой. Возле камня были навалены горкой оленьи рога.
Видение расплылось и пропало. Митроха, схватившись за голову, ладонями до боли давил на глазницы.
Никогда эта земля и ее темное колдовство не отпустят его. Даже если он убежит за тысячу верст отсюда.
Золотая гривна каким-то образом ответила ему. Разгадка ее была на тех пустынных берегах…