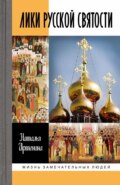Наталья Иртенина
Легенда о Кудеяре
VII
К госпоже Лоле Кондрат Кузьмич наведывался, когда ощущал потребность в оздоровлении. А бывало это не так чтобы часто, но и не так чтоб редко.
Госпожа Лола для просторылого кудеярца знаменита с трех сторон: тем, что экстраведьма с апартаментом в центре города, что замужем за всеми головами Горыныча, и тем, что каждую неделю ездит на новой машине, а старую отдают в ремонт или прямо на свалку, но госпоже Лоле от этого ничего не бывает, даже царапинки. А бывает только тем, которые в машине с ней сидели или под колеса случайно попались, – тех сразу в покойницкую увозят или сначала на лечение, потом в покойницкую. А чтобы после лечения домой – это редко. Потому как госпожа Лола очень энергетичная дама. Она и в своем оздоровительном салоне клиентам энергетизм в теле поправляет, даже диплом на эту тему ей выдан. А помимо салона, госпожа Лола – модная светская кобылица и с Кондрат Кузьмичом любезное обхождение имеет. А также с малыми городскими, прочими деловыми и авторитетными шишками. И все к ней в салон ходят, которые здоровье укрепляют, а которые, говорят, ей самой энергетизм поправляют ко всеобщему удовлетворению.
Кондрат Кузьмич, приехавши, к госпоже Лоле сразу в личный апартамент отправился и на кушетку массажную для важных персон прилег.
– Вот, – жалуется, – подорвал здоровье, для народа стараючись. Поправить бы надо, Леля.
А Лёлей только двое могли госпожу Лолу называть – муж со своими тремя ипостасями и Кондрат Кузьмич, мэр кудеярский. Другим бы не сошло.
– Это мы вмиг поправим, Кондрат Кузьмич, – воркует госпожа Лола, энергетизм в пальцах разминая и по воздуху массажируя, как экстраведьмы всегда делают. По комнате уже курения расползлись, благовонь источают. А сама госпожа Лола вырезами на длинном тугом платье сверкает – спереди до пупа и сзади до нижнего предела. – Уж совсем вы себя не жалеете, не бережете, а случись что, кто же нам вас заменит, кто заботу о жизни народной на себя взвалит?
– А будто не знаешь кто, – отвечает Кондрат Кузьмич, расслабление чувствуя во всем теле от курений и непонятное – от пальцев. – Муженек твой на место мое метит, небось и рад был бы, случись что. И сама небось на меня косо думаешь. А может, ты мне энергетизм сейчас не поправляешь, а совсем наоборот?
Госпожа Лола пальцами забыла водить от такого наговора:
– Да что ты, Кондрат Кузьмич! – всплеснулась. – Да ты мне, может, милее мужа, ну его вовсе.
– Ну то-то. А Горыныч твой пусть и думать забудет о моем кресле. Нечего ему там делать вовсе, бездарю. Народ меня любит, а от его коптильни с трубой неприличной мрет, как мухи. Мне только забот больше, как баб заставить рожать. – Кондрат Кузьмич задумался и спрашивает: – А что, опостылел тебе твой муженек трехрылый?
– Да как сказать, Кондраша, – говорит госпожа Лола, – вот если б ты за себя позвал, я б и не раздумывала.
– Знаю я ваши бабьи раздумья, – отвечает Кондрат Кузьмич и, прилив энергетизма чувствуя, с госпожой Лолой начинает свойский разговор. – Нечего тут и раздумывать.
– Ах, – только и сказала на это госпожа Лола.
Окончательно выздоровемши после этого, Кондрат Кузьмич на кушетке еще недолго полежал, курения полной грудью вдыхал. А госпожа Лола, оправимшись и сама того не ведая, вновь подкоп стала рыть под его самочувствие, с утра ее же супругом истрепанное и подорванное.
– Желаю, – говорит, – озером кудеярским, чудным и дивным, владеть, полновластной хозяйкой ему чтоб быть.
А Кондрат Кузьмич возьми и страшно удивись:
– Да зачем это?
– Желаю, – дальше говорит, – быть графиней Святоезерской-Кладенецкой. А звание столбовой дворянки у меня уже есть. – И кивает на рамочку, к стене подвешенную, а в рамочке заверение круглым почерком с завитушками разными, что, мол, да, госпожа Лола – столбовая дворянка, истинная и нерушимая. А за сколько куплена сия бумага, того в заверении не сказано. – Только владений у меня еще нет, – говорит, – а желаю, чтоб были.
И голову с остроносым профилем гордо возносит, черные в просинь волосы по плечам раскидывает.
– И польза обществу от моего владения будет.
– Какая такая польза? – Кондрат Кузьмич в волнение пришел и беспокойный интерес все больше выказывал. – Какая польза мне и обществу от этого дремучего озера?
– Польза преогромная, – госпожа Лола отвечает. – Организую целительный курорт на водах. Оздоровлю энергетизм дивного озера, а не то оно мрачную тоску наводит, звуки унылые издает. А помимо того, нужно улучшение его легендарного обрамления. Что это за утопленническая загадка про город? Прямое безобразие. Одно расстройство, а не целительство. Надо исправить образность, больше яркого и положительного. Тогда турист толпой пойдет, Кудеяру польза, тебе, Кондрат Кузьмич, слава. А иначе озеро чудное пропадет, бесхозяйственное, запаршивеет совсем, тиной зарастет.
Тут госпожа Лола меду засахаренного в голос прибавила да подносит Кондрат Кузьмичу чашу с водой, особого энергетического приготовления.
– Испей, – говорит, – водицы целебной.
А Кондрат Кузьмич чашу оттолкнул и, осерчамши, спрашивает:
– Из озера?
– Оттуда, – кивает. – Через семь пирамидок пропущенная, энергетизмом заряженная. В озере самом она сонная и мертвая, а у меня пробужденная, не сомневайся.
Но Кондрат Кузьмич, совсем равновесие в чувствах нарушив, вдруг разгневался и в крик пустился:
– Вот, – ругается, – где у меня это дивное озеро со своей водой, – и по горлу себя хлопает. – Изжога у меня внутрях от него и беспокойство одно. Глаза бельмом застит. Вот изведу проклятое озеро. Ночей спать не буду, а придумаю, как изничтожить, чтоб духу не осталось!
А госпожа Лола своего не уступает:
– Зачем изводить? Лучше мне во владение отдай, а я его пробужу и энергетизмом целительным заряжу. Тогда не будет вовсе никакой изжоги, и дух у озера совсем другой станет.
Кондрат Кузьмич тут замолчал и одумался, а потом кукиш знатный сложил и госпоже Лоле протягивает. А потому как целое озеро все-таки дороже стоит свойских разговоров с энергетичной светской кобылицей.
– Накося-выкуси, – говорит.
А та бровьми вопрос удивленный и недовольный делает:
– Как это понимать?
– А так и понимать. Казна кудеярская пустая, на преобразование народной жизни все ушло. Не могу, – говорит, – имуществом зря разбрасываться. А если оно тебе так надо, озеро это дивное, ты его у государства выкупи и делай с ним что хошь.
– Это официальное слово? – госпожа Лола спрашивает, видя, что дело ее выгореть может, хоть и не так, как ей желалось.
Но Кондрат Кузьмич не совсем еще хотел точку в этом деле ставить и с озером разделаться таким манером пока не решил окончательно.
– Это слово с обратной силой, – отвечает, разумея: захотел – дал, захочу – и обратно возьму.
С тем расстались. Кондрат Кузьмич сделал себе заметку посоветоваться по такому делу со своим иноземным консультантом, а госпожа Лола стала думать, как удобнее склонить мужа к выкупке дивного озера.
VIII
Иван Сидорыч Лешак, главный кудеярский дознаватель, расследовал важное дело. В своем кабинете сидючи, ноги в вечных сапогах на приступочку взгромоздив, глаза свинцовые, выпуклые в книжицу на столе уставив, Иван Сидорыч думал о том, почему это в лесах кудеярских стало так много народу вдруг помирать и без следа пропадать. И думал он об этом уже давно, дни и ночи напролет, если не считать исполнения государственного дела в подвалах Кондрат Кузьмича и в других местах.
Дело выходило значительное, да только наказать и в темницу посадить по нему было некого, а это сильно удручало Иван Сидорыча. И не то чтобы это лихие люди в лесах безобразничали, вовсе нет. Все лихие головы, даже шемаханские, у Иван Сидорыча теперь на счету были и в особом списке, и все докладывались ему в непременном порядке – так он их поставил и под крепкую руку Кондрат Кузьмича привел. Правда, были еще лихие головы под крепкой тоже рукой Захар Горыныча, но тот им безобразничать так не позволил бы, у него другие интересы.
А мертвецы в лесах в этот год каждую неделю образовывались. И о прошлом лете по двое-трое в месяц непременно насчитывалось. Да все как один кладокопатели, это родственники подтверждали и по снаряжению видно было. Вот такая выходила загадочная оказия. Но Иван Сидорыч не слабого аршина был во лбу и кое-какие все же мысли имел. Раз, думает, они клады выкапывали, значит, в кладах все дело. А как Иван Сидорыч кладовым промыслом раньше не увлекался, то и раздобыл теперь книжицу по кладовым наукам, сиречь кладознатству, и нос, на еловую шишку похожий, в нее уткнул.
А в книжице говорилось, как клад в землю положить, с какими приговорами, да в какое время, да как охранного духа к нему приставить, да где чужой клад искать и как к нему подступиться, ежели он с наговором, да как беду от себя отвести в таком важном деле. Вот читает Иван Сидорыч, что клады бывают чистые, без приговора, которые любой может взять без всякого подступа и вреда для себя, а бывают клады заклятые, под охраной нечистых духов. Эти из земли вынуть трудно, надо уговор знать, под который клад заложен, а если не знать и простым рылом к нему сунуться, то дух нечистый станет играться, пакости разные устраивать. А если рассердится, так и прихлопнуть человека может, как муху, либо болезнь нашлет, а то в землю совсем утащит. Вот страсти какие.
Иван Сидорыч дунул, плюнул да и захлопнул книжицу, осердясь. «Тьфу, бабья наука!» – говорит. А и то правда, магия эта кладовая у нас в Кудеяре пошла от Бабы Яги и ее Школы кладознатства, и книжица у Иван Сидорыча была оттуда, самой Степанидой Васильной отписанная и картинками украшенная. Степанида Васильна, конечно, не любила, когда ее Бабой Ягой за глаза кликали, а сама величалась матушкой Степанидой, по фамилии Ягина, и была к тому ж всенародной кудеярской депутаткой, за городом в оба глаза присматривала и порядок по-своему наводила. Кондрат Кузьмич оные ее порядки, может, и не так чтобы уважал, но терпел ради старого знакомства. Степанида Васильна очень радела за кудеярскую молодежь и культурное воспитание, даже музей собрала для патриотического образования. И кладовой промысел тоже своими заботами продвигала, сильно болела за возрождение старинного обычая. А не всем это возрождение нравилось, и через такое отношение Степанида Васильна прослыла в Кудеяре квасной патриоткой. Да притом энергетизма в матушке Степаниде помещалось не меньше, чем в госпоже Лоле, и обе друг дружку выносить не могли. Потому как одна была просто ведьма, а другая экстра, и при нечаянной встрече из них искры сыпались, это все видели.
А для Иван Сидорыча обе были суетой сует и бабьей наукой, и к тому же головной болью. Оттого как и от госпожи Лолы каждую неделю покойники образовывались, колесами на дороге давленные, и от матушки Степаниды, выходит, тоже в лесах мертвецы плодились, старинного колдовского промысла испробовавшие. А наказать все равно некого. За госпожу Лолу три головы Горыныча горой стоят, да сам Кондрат Кузьмич ей покровительство делает. А матушка Степанида и вовсе неприкосновенность имеет как всенародная депутатка, а если бы не имела, все равно отопрется. Скользкие они очень, ведьмы эти.
Но Иван Сидорыч тоже не малого представительства был. А со Степанидой Васильной давно общение и знакомство свел, еще до преобразований жизни народной. Тогда она никак не всенародной депутаткой звалась, а деревенской бабой-знахаркой и тунеядкой, и Иван Сидорыч ее по-всякому за это гонял, даже посадить хотел, но не вышло. Вот теперь задумал Лешак разговор по душам с Бабой Ягой учредить, а из того разговору и ясно станет, как дальше быть. Жаль только, что нельзя Степаниду Васильну по званию ее депутатскому в дознавательные подвалы вызвать и лампой в ясные очи засветить. А придется в ее депутатские апартаменты самому припожаловать. Но и это ничего, Иван Сидорыч во всяких условиях репутацию крепко держал.
Поглядел тут Лешак в окошко, а там уже вечерело и в небе зазвездело. Пора было в обход владений пускаться. А владений у Иван Сидорыча много, все за раз не проверишь. Одни только леса вокруг Кудеяра сколько занимают, а там и болота дебряные, и чащобы глухие, и избушки лихие да иные места потаенные, соловушками обжитые. И все обойти надо, крепкую руку Кондрат Кузьмича явить. А кроме лесов, потаенные места в самом Кудеяре имеются, тут тоже порядок назначить надо и держать в силе. А как нрав у Иван Сидорыча нелюдимый был и с помощниками у него не вязалось, доверием их не облагал, то и во владениях сам все делал и сам в оба глядел. Но за то его уважали лихие головы, хоть и лют бывал.
Вот собрался Иван Сидорыч, вечные сапоги снял, понюхал там внутри и обратно натянул. Кого другого обдало бы и своротило, но главный кудеярский дознаватель крепок телом был и крепкий дух тоже за должное считал. А после в серую плащ-палатку, для глаза необозримую, закутался с головой и пошел пешком вон из города.
А путь его перво-наперво лежал на Заколдованное болото.
Заколдованное болото у нас в Кудеяре знаменито и прославлено. Лихие головы его давно облюбили, прежде того даже как Кондрат Кузьмич нам свободу объявил. Тогда, конечно, ремесло разбойное не в почете было, но уже к тому приноравливались. Только болото в те времена еще не стало заколдованным, и несколько соловьиных шаек оттуда, одну за одной, выгребли, хоть и с затруднением. Но вот пришло преобразование жизни, и болото внезапно заколдовалось. А колдовство такое было: стала вдруг теряться дорога к нему. То она есть, а то ее нет, и подходов никаких не сыщут. Идут очерёдную атаманскую свистовую шайку с болота вынимать, а пути и нет, обратно ни с чем уходят. Иван Сидорычу с Кондрат Кузьмичом докладываются, так, мол, и так, задание выполнено, душегубцы по приказу не найдены. А это уже потом наши кудеяровичи дознались, кто болото заколдовывал и обратно расколдовывал. Не впритык, конечно, дознались, а так, приблизительно и со всем уважением. Потому как, лихоимцы когда совсем распоясывались и укорота требовали, а у начальства от них мигрень разыгрывалась, болото тотчас и расколдовывалось. Душегубцев оттуда сейчас же в подвалы перевозили и дознавались, где они высвистанное золото попрятали и почему стабильный фонд Кондрат Кузьмича не пополняли по установленному порядку. А только они скоро опять на болоте заводились.
Но Иван Сидорычу, конечно, дорогу вовсе и не нужно было искать. Он же, сказывали, в лесу от еловой шишки родился и каждую древесную корягу там наперечет знал.
IX
Башка, Студень и Аншлаг туда же направлялись, но не в логово потаенное, а клад искать. Там ведь от шаек прежних много закладок оставалось, видимо-невидимо, а копатели туда забредать опасались, такая у Заколдованного болота немилосердная слава ходила. Но этим троим и сам черт был не брат – непромокательную одежу нацепили, лопату складную прихватили, фонарь засветили и идут, глядят в оба. Тропинку болотную высматривают, гнус кровососный давят. То молчат, а то разговоры ведут для отважности. Как земля под ногами проминаться стала и жижей зачавкала, Студень, весь в мурашках бегающих, страшный сон рассказывать принялся, самое время нашел.
– Снится, – говорит, – мне не пойми что за пугало, вроде и человек, а сам вроде привидения или фантомаса какого. Морда бледная, плоская, будто стесанная, глаза горят, и руки вот так, – показывает, – как водоросли в воде болтаются да ко мне тянутся.
Аншлаг гогочет и тоже руки так делает, Студня хватает. Но тот отбрыкнулся досадно и продолжает:
– А потом слышу – говорит вроде, только не ртом, а не пойми чем. Говорит, исполню любое желание, если, говорит, отдашь мне свое лицо. Ты, говорит, думай, а я еще приду.
– Ну и – отдашь? – спрашивает Аншлаг и ладонью как будто скальп с лица снимает для потехи.
– Ты, Волохов, дурной, – Студень отвечает, – а это всего только сон. – И подумавши, говорит: – А все равно не отдал бы.
Но тут Башка им знак сделал и замер на одной ноге.
– Цыц вы, – говорит, – слушайте.
А издали будто плач раздавался, словно дите титьку просит или обмочившись.
– Кошка, – сказал Аншлаг и стал камень под ногами искать или палку подходящую, чем бросить. – Сейчас я ее.
– Откуда на болоте кошки? – Студень спрашивает. – Надо посмотреть. А вдруг правда дите? Это бывает. Дура какая родит тайно и бросит в глухом месте.
– Зачем бы эта дура на болото потащилась? – говорит Башка, но на звук нездешний пошел и фонарем промеж стволов ветвястых светить стал.
Через несколько времени увидели – лежит впереди на ровном мху спеленутое дите и от крика давится. Ошалели тут, конечно, в затылках потерли и стали решать, как быть, забрать дите или так оставить, авось недолго ему осталось горло драть.
– Дура какая оставила, а нам обратно тащить? – кривит пасть Аншлаг. – Нашли дурней.
– Жалко дитятю, – говорит Студень, – вон как орет, жить хочет.
– Вроде на твердом лежит, – заметил Башка, чавкнув жижей под ногами.
А болото заколдованное страсть как гостей пришлых не любило, только на тропинке их и терпело, а чуть шаг неверный сделают, так и бултых, засосет без жалости и костей не выплюнет.
Студень решился и уже к дитю было направился, да Башка вдруг берет корягу малую и бросает ее в самый мох, на котором ребятенок надрывается. А мох возьми и провались вместе с корягой, а на месте круги расходятся, и младенца орущего как не бывало, сгинул совсем. Только слышно: бульк да бульк.
– Вот так, – Башка говорит, руки отряхая. – Самая топь.
Студень рот раскрыл и наглядеться на страшное место не может – так сразу развезло душевно. Аншлаг его локтем за шею взял и вперед толкает, дальше идти.
А всякое на поганых болотах бывает. И мерещится, и зазывает, и огнями манит. Духу нечистому тут раздолье, человеку погибель.
Бредут уже заполночь, луна молоко сверху льет, фонарь руки ветвястые и ноги-корни из тьмы выхватывает. Над головами совы ухают, и иные ночницы крыльями жуть наводят, стращают. Вдруг показалось впереди тусклое сияние, с-под кустов видное.
– Папоротник! – орет Аншлаг и пальцем в сияние тычет, да на месте подпрыгивать начинает от невтерпежу.
Зарево малое чуть вдали от тропки болотной играет, подойди и бери. А только вовсе не папоротник это был, а цельный сундук, и с-под крышки у него свечение вырывалось, зазывало.
– Клад! – снова кричит Аншлаг и сильнее приплясывает, руки потирает, дорогу глазами к сундуку нащупывает.
А место вроде не коварное, кочки виднеются, стволы повальные, топью не отдает. Да втроем к сокровищу ломиться все равно неудобно. Вот и стали думать, кому идти сундук выручать. Студень головой мотает, душевный разброд от младенца нечистого еще не залечил. Аншлаг землю ногой трогает и дубину длинную от сухого ствола отхватывает. А Башка говорит:
– Я пойду. – И дубину отнимает.
Аншлаг, глазами пыхнув, палку не дает, сам идти желает, чтоб к сокровищу первым припасть.
– А чего это ты? – спрашивает. – А может, у тебя на уме что? Может, ты нас бросить задумал, а сам с кладом убежишь? – И смотрит совсем неразумно, будто головой тронувшись.
– Дурень, куда я убегу посреди болота? – отвечает Башка и дубину снова на себя рвет.
Аншлаг бы вовсе взбеленился, но тут Студень вмешался:
– Да идите вы оба, – говорит, – а не то подеретесь сейчас, самое место для этого, ага.
Те друг на дружку мрачно поглядели, дубину с двух сторон обхватили и двинулись. Палку вперед выбрасывают, щупают, ноги, опасаясь, переставляют. До сундука шагов десять было, ан глядь – десять шагов прошли, а до клада столько же осталось. Опять мрачно посмотрелись, палку крепче сжали и снова идут. Под ноги глядят да не видят, как сундук проклятый от них уползает. А внизу уже чавкает звонко, и сапоги вглубь уходят. После новых десяти шагов встали, в третий раз переморгнулись, и наконец в разум вошли. Да и вовремя.
– Он нас заманивает, – Башка говорит, – к топи уводит. Морок это, точно.
– Нет, не морок, – Аншлаг отвечает, – это заклятый клад, со сторожем нечистым. Он только показывается, а в руки не дается, если наговора не знать. Сторожа только наговором отогнать можно.
– А как его узнать? – Башка спрашивает.
– Его только хозяин клада знает. А снимающее заклятье можно у Яги спросить, но она за просто так не даст.
– Так к ней идти еще надо, а клад потом не сыщешь. Спрячется, раз он заклятый.
– Не сыщешь, – соглашается Аншлаг и в голове трет, мыслит.
– Пошли обратно, – говорит Башка. – Чего тут стоять, рты разинувши.
Вернулись, а по дороге назад оборачивались – сундук исправно за десять шагов следом полз.
– Ну и катавасия, – Аншлаг головой вертит, изумляется.
Студень их встретил, радуется, что не булькнулись, и на клад тоже ругается.
– А может, ну его? – говорит. – Другой найдем, сговорчивей.
– Нет, – отвечает Аншлаг, – хочу этот укоротить. Это мне испытание, а надо теперь выдержку и смелость проявить, тогда удача будет.
И стали думать, как клад укоротить и в чем тут выдержка должна быть. А потом Студень достал из кармана крестик на нитке и говорит:
– Вот, бабка сказывала: в нем меня крестили. Взял на случай, вдруг да поможет.
Аншлаг заинтересовался и крестик взял, обсмотрел, «спаси-сохрани» прочитал.
– Бабка говорила, он беду отгоняет и духов нечистых жжет, – дополняет Студень.
– Ну-ка мы сейчас, – развеселился Аншлаг, – всех нечистых тут поразгоним, пятки им подпалим.
Поднял перед собой крест на нитке и без дубины к кладу пошел.
– Во имя… этого… Отца и этого… Сына… – дурошлепствует. – Как там дальше? – кричит.
– Святого духа, – ему подсказывают.
А клад на месте стоит, не шелохнется, только малым заревом моргает.
– Ага, сволочь, – радостно орет ему Аншлаг, – контузило прямым попаданием!
Все десять шагов миновал, перед сундуком на коленки свалился и руки протягивает – да вдруг воплем исходит. Глядь, а вместо клада перед ним куча не то грязи болотной с тиной пополам, то ли дерьма чьего-то, с прозеленью, и воняет преобильно, и в самую ту кучу рука опущена. Вскочил Аншлаг, рукой размахивает, дерьмо стряхивает и об мох да траву обтирает, а сам криком ругается и грозится страшно. На тропинке Башка со Студнем от смеха покатывались и пальцами тыкали.
– Проявил выдержку, – хохочут, – вот тебе и удача – награда за смелость.
Вернулся к ним бедовый кладокопатель, дубиной хотел огреть обоих, да только плюнул и вперед по дороге отправился. Где увидит на земле воду выступившую, там руку полощет, а вонь смыть все равно не получается, глубоко въелась.
Студень у него крест свой отобрал и на шею повесил: раз кладового сторожа им контузило, значит, и другое какое непотребство отвести сможет.