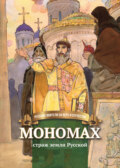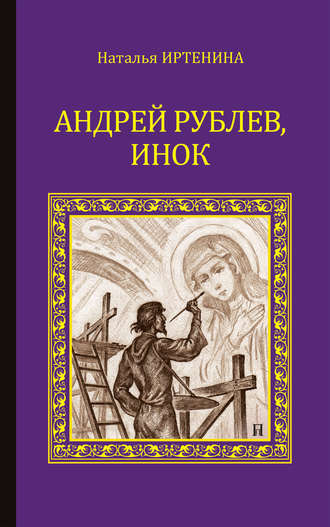
Наталья Иртенина
Андрей Рублёв, инок
Автор благодарит за помощь в работе над книгой доктора исторических наук, специалиста по истории средневековой Руси, доцента МГУ Дмитрия Михайловича Володихина
Об авторе
Книга «Шапка Мономаха» московской писательницы Натальи Иртениной продолжает линию исторических произведений, начатую романом «Нестор-летописец» (2010). По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями… Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию…»
Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.
Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.
В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».
Наталья Иртенина
Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «…княжне Мышкиной на балу лицемеров».
На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Избранная библиография Натальи Иртениной:
«Белый крест» (2006)
«Меч Константина» (2006)
«Царь-гора» (2008)
«Нестор-летописец» (2010)
«Шапка Мономаха» (2012)
«Патриарх Тихон» (2012)
«Андрей Рублёв, инок» (2013)
Часть первая
Владимирская Богоматерь
1.
1410 г. по Рождестве Христовом
В руки варваров отданы судьбы империй…
Эта неприятная мысль давно и часто посещала философа Никифора Халкидиса. С тех самых пор, как год назад он отплыл из константинопольской гавани в свите нового русского митрополита Фотия. И так часто, что невозможно было не впасть в горчайшую печаль, утоляемую лишь чтением «Родосских песен любви» и повестей о влюбленных, мучимых негодником Эротом.
Полгода в убогом литовском Киеве и два месяца в Москови, где даже посреди города растет лес! Все это время книжные злоключения Каллимаха и Хрисоррои, Велтандра и Хрисанцы служили сладостным напоминанием о прекрасных временах в Мистре и Фессалонике. Но что сравнится с ними здесь, в дикой Роси, будто проклятой богами? Пытливые взоры бледных москвитянок, настороженно выглядывающих из вороха одежд? Невежество высшей аристократии? Темное церковное суеверие? Оному суеверию тут отдаются с таким же воодушевлением, с каким Хрисанца выпрыгивает из окна в объятия Велтандра – и совершается то, что страстно желалось обоим.
Разве будет здесь цвести подлинная поэзия, произрастать ученость и разве не проржавеет от таких печалей доспех философского бесстрастия?..
– Бессмысленное существо с ослиной мочой вместо разума! Бесчувственный варвар, ленивее которого только цирковой питон! Глиняный истукан, вылепленный криворуким гончаром! Зловонный сосуд, исполненный нечистот! Самый упрямый мул в конюшне моего дяди, великого скевофилакса Иосифа Халкидиса, обладает большей рассудительностью и послушанием, чем ты, невежественное животное!..
Молодой холоп, коему адресовался этот гневный поток, слушал с мечтательным видом, моргал и успокаивающе гладил морду хозяйского коня. Из всей речи, произнесенной на греческой молви, он уловил лишь знакомое имя Халкидис и понял по-своему: митрополичьего грека обидел в церкви кто-то из бояр, вот и ушел с обедни прежде срока. А обедня ныне праздничная, троицкая, не абы какая. Великий князь со всей своей меньшой братией нынче в сборе. Бояр понаехало, княжьих да боярских служильцев со всей Московской земли! Теснота в церкви, вестимо.
– Почему я так долго звал тебя и искал? Ты должен быть там и ждать меня!
Никифор перешел на русскую молвь и требовательно простер длань к неказистому на греческий вкус Успенскому собору, откуда глухо доносилось клиросное пение. Широкий рукав греческой далматики махнул холопа по носу.
Ивашка от внезапности, с какой словеса грека стали внятны, бухнул неприветливо:
– Так не искал бы, боярин. Чего из церквы-то убег? Нехристь ты, что ли, а не православный? Ну толкнули, может, нечай, так то не по злобе, а по усердию…
Никифор Халкидис задохнулся в изумлении. Потянул притороченную к конскому седлу плетку, занес руку. Ивашка отшагнул, вжал голову в плечи, зажмурился.
Плеть все не опускалась, и он приоткрыл глаз.
– Сейчас я тебя ударю, – медля бить, непонятно пригрозил грек. – Но раб должен знать, за что наказываем. Говори!
От коновязей посреди Никольской улицы на них пялилось с ухмылками три десятка рож, принадлежавших боярским слугам и холопам.
– Откуда ж мне знать, боярин, что тебе поперек встало, – обиделся Ивашка на непонятность и выпрямился.
– Сколь раз твердил, не звать меня боярином, бессмысленное создание! – Грек опять замахнулся. – Никифор Халкидис – ученый и ритор, а не придворный лицедей. Обращаться ко мне – кирие!..
– Кири, так кири, – усмехнулся Ивашка. – А хочешь бить – бей.
– Так вон она какая, афинейская премудрость, – громко раздалось из-за спины философа.
Гнев стерся с короткобородого лица грека, и на его месте водворилось холодное величие. На высоком лбу под черными курчавыми волосами явились две складки самого философского вида. Кириос Никифор поворотился, коснувшись груди пальцами, унизанными перстнями:
– Клянусь божественным Платоном!..
Перед ним в широко распахнутом малиновом опашне, подбитом камкой, и бархатной шапке стоял боярин Юрий Васильевич Щека. Неспокойные глаза княжьего наместника рыскали по греку, будто что потеряли на нем, и густой пшеничный ус подрагивал, как у боевитого кота.
– Эллинская мудрость! Что в Московии знают о ней?
Выражение лица Халкидиса стало еще более ледяным, совсем удивительным для этого полуденного народа. Тому была своя причина. Боярин великого князя и наместник бывшей русской столицы, Владимира-Залесского, оказался виновником неприятного происшествия в Успенском храме.
Никифор Халкидис, приписанный к свите Фотия без чина и должности, на церковных службах появлялся лишь изредка. Но сегодня, на Троицу, его привело в соборный храм дело. В сей день на большой праздник по обычаю съезжались все братья из княжеского рода, сыновья одного отца, поделившие меж собой Московское княжество. Однако после того, как забасили дьяконы и густой ладанный дым защекотал в носу, философа постигло разочарование. Из четверых удельных Дмитриевичей в Москву прибыли только трое. Отсутствовал тот, кто интересовал Никифора более всего, второй по старшинству, князь Звенигорода Юрий. Рассмотрев младших, Андрея, Петра и Константина, одетых столь же пышно, что и великий князь, но послушно стоявших позади, грек под возгласы бесчисленных «паки» и «паки» намеревался покинуть церковь.
Исполнить это оказалось непросто. Невеликий храм был полон. Путь к выходу закрывала толпа провинциальных аристократов, высокомерно оттертых назад московской знатью. Посреди же этого собрания, осенявшегося крестами, к уху Никифора склонился владимирский наместник Щека. Пока дьякон тянул ектеньи и хоры пели антифоны, он успел громким шепотом поведать греку о многом. О том, что звенигородский князь Юрий из-за давней ссоры со старшим братом в Москве не появляется. Что на своем подворье в Кремле помирает их двоюродный дядька старый князь Владимир Андреич, серпуховской владетель, уберегший недавно Москву от татар. Что от той татарской рати, приведенной на Русь позапрошлой зимой темником Едигеем, вся земля опалилась, оскудела, обезлюдела. Во градах имение сожжено и пограблено, а которое не досталось татарину, пошло на погребение тысяч трупов, на прокорм живых, на плотников и иных мастеровых, ставших великой ценностью. Известно, что татарская нечисть оставляет после себя – голод да мор от непохороненных мертвецов, да горелые руины. На все серебро потребно, а где взять? Великий князь и тот от горести и нужды в церковную казну заглянул, отъял некую часть…
Во время этого долгого шептанья на боярина и митрополичьего грека оборачивались. Оглядывали, хмуря брови, но почему-то лишь одного Никифора, молча внимавшего рассказу. Иной раз грозно шикали. А затем на спину философа обрушился удар, от которого едва не подкосились ноги. Исполнившись многоразличных и недостойных ученого чувств, грек обернулся. Но узрел мирно, с опущенным взором молящегося Фотиева боярина Акинфия Ослебятева, а возле него монаха в схиме с тростью, увенчанной костяным навершием. Взгляд схимника был обращен внутрь, и гнев Халкидиса не проник за молитвенную завесу чернеца.
Как выбирался из собора, протискиваясь меж аристократических тел, каждое из которых было недвижным, как скала, Никифор уже не помнил.
– Сомлел, кирие? – с участием спросил боярин Юрий Васильевич. – Духота ноне, гроза будет.
Нутром снятой шапки он утер лицо от пота. Слуга, стоявший сзади, сунул в его протянутую руку корчажец.
– На-ко, охолонись, друже, – предложил Щека. – Недобрая она, эта твоя эллинская мудрость, – продолжал он, глядя, как грек жадно глотает холодный квас. – Огрел бы плетью, вразумил холопа. А ты, кирие, измываешься. Тут Русь, – боярин отхлебнул из другого корчажца, – по любви живем, а не по учености.
– Благодарю за угощение, – ответствовал грек, но так, будто угощение представляло собой ту самую ослиную мочу. – И за приятную беседу в церкви. – Движением пальца он отослал своего холопа. – Однако тот разговор был прерван…
– Вот! – Щека усмехнулся. – В корень зришь, кирие. Недоговорили мы с тобой.
Он щелкнул сопровождавшим его дворским. Боярину подвели коня в дорогой попоне. Несмотря на грузность, являвшую скорее следствие постоянных упражнений с оружием, нежели бездельного жития, Щека легко забросил себя в седло. Худосочному греку, привыкшему к колесницам, возноситься на коня было все еще непривычно, и потребовалась помощь Ивашки.
– Итак, о чем ты хотел поведать, кирие Георгий?
Никифор догадывался, какая забота нудит великокняжьего придворного снисходить до несановного философа, которого московские вельможные мужи вовсе не замечали. Неспроста Щека завел разговор о церковной казне, куда запустил руки не только великий князь. Фотий, едва осев в Москве, обнаружил, при догляде своего казначея Акинфия Ослебятева, огромные бреши во владычном хозяйстве. Села, погосты и волости, значившиеся по росписям в разных уделах Московии, не слали дань, житницы и амбары на митрополичьем дворе стояли пусты. В ризницах и рухлядных кладовых собиралась только пыль да ветшали старые облачения. Три с половиной года, пока послы ездили в Константинополь за новым митрополитом вместо умершего Киприана, здешняя знать времени даром не теряла, саркастично размышлял Никифор. С таким же простодушием, с каким веровали, русские грабили свою Церковь и нисколько не почитали оное за грех. О столь странном веровании Халкидис был бы не прочь пофилософствовать в ином месте и, быть может, даже счесть подобное явление многообещающим. Но то, с чем подступал к нему боярин Щека, требовало вовсе не изящества и глубины мысли, а совсем другого.
Кони медленно стучали подковами по мощеной улице, переходившей в Соборную площадь, мимо двора младших удельных князей, обнесенного крепким тыном.
– …С оглядкой бы владыке на своем настаивать, – внушал греку владимирский наместник, в чьем почти полновластном ведении обретался не только бывший стольный град, но и обширная его округа. – Неровен час поссорится с великим князем. Да и среди сильных бояр недругов наживет. Акинфий Ослебятев небось не станет его о том упреждать. У самого рыло в пуху, верно о том знаю. Казну теперь не вернешь – неоткуда, все в Едигеево разорение ушло. Сергиеву Троицкую обитель и ту не на что возрождать!.. Э, да ты и не знаешь, кирие, что за Сергий у нас на Руси был. Его и доныне князья чтут как отца духовного. Юрий звенигородский, крестник его, слезми обливался, когда татары спалили Сергиеву пустынь под Радонежем. Да разве б не расстарались они оба, Василий с Юрьем, чтоб монастырь Троицкий возродить! – Щека тяжко вздохнул и перекрестился на купольный крест одноглавого Успенского храма. – Молитвами Сергия Русь доныне устояла. В Куликовом побоище более половины войска легло, а Мамая с его ордой прочь погнали. Вот что сильное Сергиево слово творило. Сказал – победим, так оно и вышло! Святой старик был, чудеса являл. И доныне являет, хотя давно в земле лежит.
Слушая это хвалебствие неведомому монаху, в котором русское невежество обрело святого, Халкидис прикидывал в уме, сколько деревень, погостов, починок, пастбищ и покосов увел из митрополичьего владения дородный боярин. Сколько платяной и меховой рухляди, ценной утвари, амбарного запаса и иного не досчитается Акинфий Ослебятев, когда вместе с Фотием доберется до Владимира.
– …Так ты, кирие, донеси о том владыке. У нас тут Русь: по любви живем, не по казенным росписям. А иначе как? То татары, то мор, то пожар, то недород, а либо иная беда. У нас без любви никак. Полюбовно решать надо. – Щека скосил хитрый глаз на грека. – С Акинфием мне про это баять неможно. А из всех греков, что Фотий с собой привез, ты один по-нашему толмачишь. Обучился-то где?
– Купил на невольничьем рынке смышленого русского раба. Разумному человеку не зазорно перенимать знания и у раба, коль тот обладает ими.
Над Соборной площадью, которую они почти миновали, заполненной служильцами, слугами, праздным людом, нищими и калечными, взмыл быстрый колокольный звон. Из Успенского храма поплыла, разрезая вмиг сгустившуюся толпу, чреда архиереев в зеленых ризах. Впереди шел седобородый митрополит Фотий и с отрешенным выражением на лице раздавал в обе стороны благословения. За иерархами ступил на площадь великий князь в парчовой ферязи с золотым кружевом и в круглой княжеской шапке. Василий был невысок ростом, но широк в кости, с короткой, на литовский манер бородой и острым, режущим взглядом. Стремянный подвел ему каурого коня, разубранного в серебро. Утвердившись в седле, не оглядываясь на братьев, князь шагом направил жеребца к своему дворцу, мимо церквей Архангела Михаила и Благовещенья.
– Вишь, великий стороной объезжает владыку, – кивнул Щека на Василия Дмитриевича. – Не сошлись по любви. Докука для князя твой Фотий, кирие. Дотошлив не в меру…
Скопление родовитой аристократии всех чинов и духовенства понемногу рассеивалось. Но вдруг по площади, как ветер по ржаному полю, вновь прошло оживление. Поднялся шум, паперть Успенского храма густо облепил люд. Не успевшие отъехать бояре и служильцы на конях рассекали толпу.
– Что там происходит? – осведомился Никифор.
– Сухорукий прощен!.. От гроба чудотворца Петра!.. – донеслись возбужденные крики.
Щека направил коня вперерез бежавшему сломя голову мальчишке.
– Исцелился от гроба! Сухорукий исцелился! – вопил тот во все горло.
Боярин, нагнувшись с седла, поймал огольца за шиворот.
– Сам видел, – орал от восторга мальчишка. – Сухая была рука, за пояс заткнутая, а как от гроба восстал, рука ожила!
Вырвавшись, босоногий малец поскакал разносить весть. Щека подъехал к Никифору, коротко изъяснил:
– Чудо. О прошлом годе такое же было. Баба расслабленная прощена была, своими ногами пошла.
– Чудо? – с пренебрежительной улыбкой переспросил философ. – У нас в Мистре таких исцеленных мошенников бросают в темницу и держат до тех пор, пока не признаются в столь грубом обмане. – Он стал поворачивать коня. – Я много обрел ценного в твоих речах, пресветлый кирие Георгий, но не могу обещать, что Фотий прислушается к твоим советам. Русская церковная казна нужна ему для пополнения пустых хранилищ во дворце константинопольского патриарха.
Коротко кивнув, грек пустил своего гнедка трусцой вдоль тына митрополичьего двора, примыкавшего к Соборной площади. На отдалении за ним плелась холопья кобыла с зевающим Ивашкой.
Щека плюнул философу вслед и, приложив короткой плетью жеребца, стал прокладывать путь к успенской паперти, где волновалась чернь. На ступенях лицом к дверям, коленями в каменные плиты стоял ражий мужик и усердно бил поклоны, размашисто крестясь.
– А ну покажь руку! – зло крикнул Щека, раздвинув конем черный люд.
Мужик, поднявшись, закатал правый рукав, вытянул длань и воззрился на нее как на некую драгоценность. Плоть на костях была иссохшей, твердой, перевитой застарелыми шрамами.
– Эт ничо, нарастет мясо. Совсем уж пропадал… женку, детишек кормить нечем… Кузнец я, с одной рукой куда… Зарок дал – крест пятиаршинный выковать… – одуревший от радости людин ронял в бороду слезы.
Правя коня прочь от бурлящей площади, боярин бормотал сквозь зубы:
– Хоть самому… к чудотворному гробу… И пошто татарва клятая Владимир стороной обошла? Пожгли бы, и концы в воду… – Съезжая на Никольскую мостовую, он ворчал: – У них в Мистре… ишь ты… А у нас на Руси так… И где эта самая Мистра?..
2.
Велик посадский торг на Москве. Тянется вдоль стен Кремля за рвом от Угловой башни до самой Фроловской, и уже дальше, за Ильинскую улицу перешагивает. В рядах чего только нет со всего свету, и самих рядов каких только нет. Суконный, сурожский, шубный, рухлядный, кожевенный, гончарный, бондарный, плотницкий, кузнецкий, оружный, бронный, пирожный, хлебный, мясной, рыбный, питейный, сермяжный, берестяной, рукодельный, книжный, иконный… Речь кругом слышна греческая, фряжская, татарская, бухарская, ловит ухо новгородское цоканье и говор литовских украин. Лавошники друг друга перекрикивают, выхваляясь товаром. Гомон, смех, крепкая брань, бабье визгливое недовольство, сплетни, плеванье лузгой подсолнуха и опруживанье бесчисленных кружек квасу.
В иконном ряду тише, покойнее. Лавошные сидельцы не хватают за полы и за руки, не рвут на себе рубахи, доказывая, что лучше товара на всем торгу не найти. Здесь степенно показывают то, что просят, а лишнего не навязывают. Знают: и самые дешевые земляные краски, и беличьи хвосты для кистей, и свертки паволоки, и листовое серебро да скатный жемчуг, полосы ажурной скани для драгоценных окладов ждут только своего покупателя и к другому, случайному, не уйдут. Знают это и покупатели – не торопятся, тщательно изыскивая то, что нужно только им и никому иному…
– Нету, – со вздохом молвил чернец в долгой мантии поверх подрясника и клобуке. За спиной у него висела грузная, доверху полная заплечная торба. – Пойдем, Алексей.
На вид ему можно было дать и сорок лет, и тридцать, а то и менее. Сдвинет брови, куда-то убежит мыслью, ссутулит плечи, и станет похож на светлого старца. А разгладит лоб, улыбнется одними глазами неведомой грезе – и сделается отроком, не успевшим познать вполне всех радостей мира.
Второй был послушник в сером подряснике и шапке-скуфье, тоже с сумой на плечах. Он лишь недавно отрастил щуплую бороду, но хотел казаться старше и безотчетно подражал монаху, так же сводя брови. Однако это делало его не старше и видом не мудрее, а попросту угрюмее.
– Да что искали-то, Андрей? Скажи толком. Битый час впустую ходили.
– Почему впустую? Вон сколько всего накупили. – Чернец заглянул себе за спину. – Вохры, земли, киновари, медянку. Черлень. Голубец подходящий нашли. И мела в запас взяли.
– То-то ты все краски на каждом прилавке жадно перебирал, как женка – свою златокузнь.
– Жадно? – озадачился Андрей. – Пожалуй, ты прав, Алешка, не стоило жадно.
– А искал-то что? – повторил отрок.
Монах запрокинул лицо в небо, сиявшее полуденной голубизной.
– Вот что искал.
– Небо?
Андрей покачал головой.
– Небо всякому дано. Лазорь небесную искал. Да не нашел.
– Да вон же ее сколько, – пожал плечами молодой, возвращаясь к последней в ряду лавке. Под цепким доглядом сидельца стал вытаскивать из большой коробьи сколы земляных пород – павлиньего камня малахита и голубца. Камни разной величины, всех оттенков синевы и празелени, бледные, густоцветные, с прожилками, с темными крапинами. Андрей легко прикасался к ним длинными пальцами:
– Это в зелень уйдет. Этот не даст хорошего цвета. Этот, если крупно растереть… да нет, все равно серый порошок будет… Нету той сини, о которой грезится, Алешка. На это не голубец надобен, а лазорь настоящая.
– У-у, редкий товар, – покрутил головой лавошный сиделец. – В Москве не видал. Разве в Новгороде найдете, по цене золота. Там немцы продают, а к ним от турских и персидских агарян привозят. А уж к тем от дальних бухарских и самаркандских ордынцев попадает. Очень далеко.
– Пойдем, Алексей. У нас с тобой и богатства такого нет, чтоб о лазори мечтать.
Они вышли из рядов и направились мимо торга к Варьской улице.
– А князь? – спросил отрок. – Может великий князь добыть той лазори?
– Наверно, может. Да только зачем ему? – Подумав, Андрей продолжил: – Пустой разговор, Алешка. Князю опять ордынский выход платить. Видишь, осерчал на него Едигей, что дань перестали давать, сам пришел и взял сполна.
– А я бы… – послушник умолк, будто поперхнулся.
– Смотри-ка, бегут куда-то.
Андрей оглянулся на шум, нараставший позади. У Ильинского крестца что-то кричали, туда быстро направлялся люд. Выходили с торга, останавливали спешащих, спрашивали и тоже бежали к Ильинке.
– Идем посмотрим, что случилось, – монах потянул спутника.
Они нагнали нескольких торопившихся, от них узнали: на постоялом дворе купца Тютрюма опять заплакала слезами икона Богоматери, предвещая недоброе.
– А в прошлый-то раз к чему было? – вопросил кто-то из мужиков.
– Аль забыл?! К войне с литвинами! Ровно в то же лето псковские к князю приезжали, рассказали, как поганая литва поплененных женок и детей сгубила на морозе. Про две лодьи мерзлых младеней…
– И Максимка-юродивый надысь грозил чем-то.
– А верно! Сам слышал: блаженный баял, будто как помрет князь Владимир Андреич, так скоро и другого князь-Владимира черед настанет. Где труп, там и стервятники, баял. Налетят, мол, поклюют человечину.
– Какого это другого князь-Владимира? Нету такого. Впустую грозил, юрод.
– Максим впустую рта не раскроет!
Андрей схватил послушника за руку, крепко, до белизны закусил нижнюю губу.
– Идем!
– Не хочу. – Алексей вырвался. – Иди один, если охота. Эка невидаль…
– Да ты что, Алешка? Это ж Богоматерь!
Но молодой его не слушал, упрямо шагал обратно. Чернец, стоя на месте, смотрел то на бегущих к Ильинке, то в исчезающую средь люда спину послушника. Потом бросился догонять.
Какое-то время шли молча, свернув на Варьскую улицу. Шлепали, не разбирая, по лужам. Отрок, сердясь, дышал все громче, пока не выпалил:
– Хоть и молчун ты, Андрей, а знаю, что сказать хочешь. Что не выйдет из меня чернеца, что непокорлив я. Келарь мне все уши прозвонил этим. А разве покорливость – добро? Разве не зло это, что покоряемся татарам? Что князья перед ними спину гнут, коней ханских под уздцы водят, у стремени стоят? Да Литве отдаем один град за другим!
– Богу не захотели покориться, – тихим голосом ответил чернец, – покорились татарам и земли растеряли.
Эта тихость умирила послушника. Измарав подрясник в очередной луже, он буркнул:
– Зачем же ты за мной пошел, а не к Тютрюмову двору?
– Да затем, что твоя правда, Алешка. Не стоит монаху за толпой бежать и за зрелищем. И непокорство бывает нужно в свое время.
Отрок, тая невольную улыбку, отвернулся. И тут же встал, будто вкопанный. Из узкого проулка прямо на них вышагнул юродивый. В нечесаных, криво обрезанных волосьях застряли репьи, которыми в него бросали мальчишки. Худое голое тело было грязным, в ссадинах. Он смотрел на монаха, не замечая испуганного послушника.
– Скажи митрополиту, пусть едет на Сеньгу. – Блаженный тянул корявый палец к Андрею. – В лесу на болотах пускай умаливает Владычицу… – Из глаз его полились быстрые слезы. – А ты руками своими молись Ей!
Дав страшный и непонятный наказ, юродивый отступил в проулок и стремительно пошел прочь.
– Что он сказал, Андрей?! – молодой теребил застывшего чернеца. – Какие болота?.. Как это руками молиться?.. Да как же тебе попасть к самому митрополиту?!
– Не знаю, Алешка. – Монах зашагал вперед. – Забудь, что он сказал.
– Как забудь?! – недоумевал отрок. – Он же тебе это сказал!
– Вот я и буду помнить, а ты забудь. А то спать ночью не сможешь, – прибавил Андрей, улыбнувшись, как умел только он – одними глазами.
Дошли до конца Варьской улицы, нырявшей в ворота высокого частокола. Городьба была старая, посадский пожар и Едигеевы татары ее не затронули. Здесь Москва кончалась. За сухим рвом вилась дорога на Кулишки и дальше, в Заяузье. По обе стороны раскатанной до ям и ухабов колеи зеленели просторы, темнели перелески и слободы. От далекой слободской кузни доносился тихий перестук металла. Пели жаворонки.
Молодой искоса поглядывал на спутника.
– А правду говорят, Андрей, – решился наконец, – что ты ангелов видел?
– Пустое, Алешка. Сергий я разве, чтобы ангелов зреть? Помнишь, рассказывал тебе, как некто из троицких иноков видел однажды светозарного мужа, служившего обедню с Сергием?..
– Зачем же говорят, – нетерпеливо перебил отрок, – что тебе ангелы являлись?
– Ну что ты прилип, как банный лист, – вздохнул чернец. – Старая княгиня признала на моей иконе ангела, который велел ей к смерти готовиться. Вот и говорят попусту. А я лишь по рассказам отцов троицких запечатлел ангельский вид.
– А не всякий же со слов так запечатлеет? – упрямо гнул послушник.
Андрей промолчал. Впереди из-за остатков соснового бора показалась высокая главка Всесвятской церкви на Кулишках. Дорога сворачивала к Яузе.
– А Сергия ты видал?
– Видал. Два года тому. Перед Едигеевой ратью, когда с дружиной Успенский собор во Владимире подписывали. Сергий пришел по осени и не велел в Москву возвращаться. Хотели иконостас будущим летом писать, чтоб не в холоде, а пришлось зимой. Народу в собор набивалось… спасение у Богоматери вымаливали… тепло было. А наш монастырь здесь татары выжгли, братия разбеглась.
– Так он… помер давно? – Отрок, заслушавшись, вдруг взъерошился и сдвинул брови: – Смеешься ты надо мной, Андрей?
Однако знал: иконник и улыбается по-настоящему редко, а смеха от него подавно не дождешься.
– Помер. А по земле ходит. Вот как мы с тобой, Алешка.
– Вспомнил, – все еще недоверчиво хмурясь, сказал послушник. – Говорили еще, будто Сергий троицких монахов увел тогда из обители, от татар.
За Кулишками дорога огибала обширный Васильевский луг, где безземельные посадские запасали на зиму сено. Теперь травы только набирали силу и рост, но уже обещали своей густотой и дружностью, что покос этим летом будет веселый. Андрей, засмотревшись на разноцветье, сошел с дороги, углубился в духмяные поросли. Скинул с плеч торбу, уселся наземь.
– Иди сюда, Алексей! Смотри, какая красота.
– Жарко.
Молодой устроился рядом, развязал суму, вынул глиняный корчажец. Отхлебнул затеплевшей воды. Гудел, трудясь, шмель. С криками резали воздух стрижи. Парило после дождей.
– Трава не знает, для чего растет и для чего ее скашивают, – ожесточился вдруг отрок. – Так и люди. Тысячами мрут. Как мухи на зиму. А кто-нибудь ведает, для чего все это?
Андрей лег на спину, сорвал былие и стал кусать, глядя в небо.
– Для Бога, Алешка.
– Мрут для Бога?
– И живут, и мрут. Трава, зверье, люди. Все.
– Блажной ты, Андрей. – Отрок запнулся. – Это не я, а старец Михей так говорит… А для людей-то что?
– А для людей – красота. Вот хоть ты, Алешка. Хоть скрытен ты, и норовом силен, и горд бываешь, и душа твоя будто стылая, будто опустелая… а люблю я тебя. Что от Бога и для Бога, то все красиво.
– А может, я не для Бога? – искушаясь, спросил молодой.
– Балуй, – хмыкнул иконописец. Он сжевал одну травинку, выплюнул и взялся за другую. – Вот послушай. Был я мальцом, к краскам тянулся. А матерь с отцом не позволяли. Из служилого рода я, прозваньем Рублёв. Таким же княжьим служильцем, как отец, должно мне было сделаться. Да только стало мне являться невидимое и дальнее. Что в соседней волости случалось или хоть на соседском дворе – видел как наяву. А то грезилось еще не случившееся, чему только суждено проявиться. Лет семь мне было, на исповедь уже ходил. Матери поведал, она в испуг. Отец, узнавши, за конскую узду схватился, пороть хотел. Тоже от страха за меня. Матерь не дала, укрыла. Повезли к Сергию в Троицу. Старец на меня поглядел и услал погулять. С родительми разговаривал.
Алексей слушал завороженно.
– А дальше?
– После того мне уж не запрещали бегать к нашему иконнику. Отца с матерью скоро язва моровая прибрала. Меня в Москву взяли. Когда возрос немного, перестал невидимое зреть.