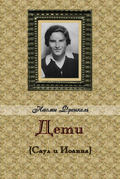Наоми Френкель
Дикий цветок
«Как тебя зовут?»
«Не имеет значения».
«Ты красивая девушка».
В машине было душно, и водитель сбросил рубаху, обнажив волосатую грудь, и вытянул, как бы напоказ босые ноги. Овечье стадо пересекло шоссе, оставив за собой черные катышки помета. Водитель увеличил скорость, и опять время полетело галопом. Мир за окнами машины превратился в мелькающие тени, в страну, где нет ни неба, ни земли, ни намека на ощутимую реальность. Это был сошедший с ума мир, в котором Мойшеле заблудился, и Адас мчалась по его следам. Длинный волос стелился по ветру, падал на водителя, и он смеялся, явно получая удовольствие. Одна рука его – на руле, другая – в ее волосах, он ощущает запах молодой женщины. Адас не почувствовала его пальцев в гуще волос. Перед ней лишь мелькали люди, деревья, животные, и здания, и все это были тени, и она не старалась особенно их разглядеть. Она словно бы летела в бесконечные дали. Все ближе и ближе к Мойшеле. Она громко смеялась. Глаза ее блестели ожиданием будущего. Она не знала, где она, и кто этот человек, который несет ее в дали, подобные снам.
Внезапно заскрипели тормоза, колеса протащились по асфальту, и Адас испугалась. Шоссе делало резкий поворот. Водитель засмеялся и положил руку ей на колено. Она очнулась от своих видений. Еще один резкий поворот, и она навалилась на водителя. Он обнял ее за плечи и обнажил свои белые крепкие зубы. Она освободилась от его объятий и сердито сказала; «Перестарался!»
Острая невыносимая вонь ворвалась в машину, окутала лицо и вызвала слезы. По узким канавам вдоль шоссе текли сточные воды из ближайшей молочной фермы. Машина остановилась на перекрестке узкой извилистой дороги, ведущей к этим фермам, и широкого прямого шоссе, идущего через долину, у огромного здания тюрьмы. По дороге ехала целая колонна грузовиков, везущих сельскохозяйственную продукцию из Галилеи в центр страны, перекрывая выход на шоссе. Сидели молча, в ожидании, и с охранных вышек по углам тюрьмы глядели на них вооруженные стражники. Двойной ряд колючей проволоки выставлял ржавчину в небо поверх стен, и чернели входные ворота. Пространство долин было перекрыто зданием тюрьмы, стенами, колючей проволокой, черными воротами и вонью нечистот. Глаза водителя пронзительно смотрели на Адас, и она прикрыла колени, которые он пытался обнажить. На ее пальце он нащупал обручальное кольцо.
«Замужем?»
«Еще как».
«Может, все же не очень так».
«Не надейся».
«Куришь?»
«Да».
Зажег сигарету, поднес к ее губам, пальцы его коснулись ее рта, глаза сделались требовательными. На миг ей показалось, что это Мойшеле подает к ее рту сигарету, пальцы его прикасаются к ее губам, и Мойшеле смотрит на нее жестким взглядом. Дым их сигарет смешался, голова его приблизилась к ее голове, и волосы, его, пахнущие дегтем, смешались с запахами отхожих вод. Словно издалека услышала она голос:
«Ну что, договорились».
Голос его был дерзок и похотлив, как лицо его и глаза. Адас отодвинулась от него, вышвырнула горящую сигарету в окно, взглянула с подозрительностью на его обнаженную грудь, взвешивая, стоит ли ей выскочить из машины. Внутренний голос остерегал ее от водителя, от его сильных рук. Но желание добраться до Мойшеле одолело предупреждение внутреннего голоса. Колонна грузовиков прошла, и парень снова помчался на большой скорости. Подозрения Адас несколько ослабели. Шоссе проходит между многими поселками, да и забито машинами. Сады и поля по обе стороны шоссе полны работающими людьми, – и что, в конце концов, может с ней случиться между всеми этими тракторами, комбайнами, стадами овец и коров? Она смотрела на долину, полную движения, и забыла про водителя. Внезапно машина свернула с шоссе, и пока она сообразила, они очутились в густой сосновой роще, с небольшим источником и прудом. Она хорошо знала эту рощу, не раз они устраивали здесь пикники. Сейчас здесь стояла пугающая, гипнотическая тишина, сковавшая тело и задержавшая дыхание. В ушах ее раздался смешок чужого мужчины и его взволнованный приказывающий голос:
«Давай, кукла!»
Он сбросил шорты, и грязные его трусы топорщились. Адас прижалась к сиденью и всеми силами уцепилась за руль. Но парень схватил ее, стараясь вытащить ее из машины. Она била его ногами, слыша собственный крик, а он отвечал:
«Что случилось, дорогуша?»
Когда он прижал ее к земле, она почувствовала, как мелкие камни впились ей в спину. Он порвал ей край платья и впился зубами и губами ей в груди. Тяжестью своего тела он душил ее крики. Где-то стрекотал трактор, Дома кибуца мерцали сквозь марево далеко в долине. На склоне горы между скал паслось стадо овец. Пастух стоял на тропе, ведущей по склону в рощу. Все ее ощущения и слух остро воспринимали каждый шорох, но все в отдалении. Весь мир отдалился от нее, оставив абсолютно беспомощной. Даже до пастуха не долетали ее крики. Но именно это одиночество придало ей силы. Внутренний голос подсказывал ей приемы борьбы. С неожиданной для нее самой силой она сбросила парня с себя, ударила в лицо, оцарапав его до крови. Оторопевший парень отпрянул, рука скользнула по ее бедрам, он нащупал щеку, увидел кровь и заорал:
«Стерва, ты что, разогреваешь мужика, чтобы дать ему по морде!»
Почувствовав, что тело его ослабело, она вскочила на ноги и побежала между деревьями в сторону пастуха. Водитель не погнался за ней. Она казалась обезумевшей в этом диком беге, порванное платье и волосы развевались на ветру. Водитель завел машину и скрылся.
Тишина наполнила рощу, и Адас остановилась между соснами. Глаза были полны испуга, лицо искажено, на руках виднелись синяки. Исцарапанные груди болели, раненная душа исходила безмолвным воплем. От грязного липкого пятна между ее ног шел запах мужского семени, и тошнота омерзения докатилась до горла. Окаменев, стояла она, глядя вслед пастуху, который стал двигаться вместе со стадом, пока не исчез в распадке между высокими скалами. Вся округа опустела, без единого признака человека. И только тогда, осознав собственную беспомощность, она заплакала, и стала искать платок, но не нашла сумки. Страх снова накатил на нее. Ведь в сумке были деньги и документы. Сумка осталась у насильника, а там имя ее и адрес. Она побежала по тропе, задыхаясь, упала на камни, встала и продолжала бежать. У пруда, в том месте, где он ее выволок из машины, нашла сумку, и ей немного полегчало. Вымыла в пруду грязь между ног, омыла лицо, в прозрачной чистой воде, начала приходить в себя. Села на камень, заплела косу. Снова ее охватило волнение, и она бормотала:
«Как это я спаслась, как?»
Вернулась на шоссе. Шла между полями, дремлющими поселками, все еще полная страха. Был полдень, и люди отдыхали в этот обеденный час. Стояла на автобусной остановке, и перед ее глазами переливались воды пруда, подобно цветной картине, словно закручивающиеся мелкой рябью воды вели беседу с лучами солнца. Дневной свет ослеплял Адас, впиваясь стрелами в голову, которая опять заболела. Обратила глаза к небу с молитвой к милосердному Богу, который спас ее в эти последние часы. Но взгляд ее наткнулся на самолет, который распылял удобрения над полями. Опустила глаза на раскалившуюся в полдень долину, стояла между тишиной окружающего мира и все еще не успокоившимся биением сердца, между громом самолета и эхом этого грома. Затарахтел приближающийся автобус, и дрожь прошла по ее телу, холодный озноб в разгар хамсина. Так она и въехала в Иерусалим.
В переулке, где жил некогда Элимелех, заключенном между широкими и шумными улицами, кажется, время застыло. Выросшие вокруг высотные здания поглядывают на старый переулок, словно желают вернуть молодость в горячем ритме нового Иерусалима. Переулок Элимелеха залег в одиночестве, и, забывшись в дремоте, плетет вязь плетущихся своих дней, пыль садится на невысокие разрушающиеся домики и покрывает стариков, сидящих у входов, словно бы они в этот миг возникли из давно исчезнувшей жизни. Пыль делает серыми даже стаи кошек, копошащихся у раскрытых мусорных баков.
Пыль эта вызывала раздражение в горле и носу Адас, вдобавок к острому запаху подгоревшего на сковородах подсолнечного масла, висящему над переулком. Все эти запахи вместе создавали один специфический запах переулка Элимелеха, запах серо-голубого цвета, и невозможно было отделить запах от цвета. Даже деревья были пропитаны этим запахом и цветом, деревья причудливых очертаний, выглядывающие из-за невысоких домов, главным образом, остановленные в росте смоковницы. Лишь стаи птиц галдели, нарушая дремоту переулка.
Идет Адас между домами, стариками и кошками, усталая, голодная, несчастная, страдающая от жажды. Она торопится к Мойшеле, и коса ее прыгает над едва прикрытым разрывом платья. Лицо ее печально, темные круги у нее под глазами, и она вовсе не выглядит городской и сияющей голубкой с какого-либо конкурса красоты. Камни мостовой стерлись в течение времени, шаги по ним легки, но стук сердца Адас отзывается громом в ушах.
Ветхая калитка открывается без труда. Во дворе, между скульптурами, высеченными Элимелехом из камня, на веревке развешано белье. Хамсин поигрывает мужскими трусами. Постучала в дверь, и незнакомый голос пригласил ее войти, не спрашивая, кто это. Тяжелая дверь раскрылась также без труда. Адас замерла на пороге. В комнате царил сумрак, и незнакомый ей мужчина лежал в постели. Рядом с ним лежал знакомый пес-боксер, и рука человека поглаживала его по спине. Пес залаял, человек приподнялся и посмотрел на Адас:
«Ты – Адас».
«Ты меня знаешь?»
«По рассказам».
«Где Мойшеле?»
«Уехал».
«Когда он вернется?»
«Не знаю».
«Сегодня?»
«Не думаю».
Парень зажег лампу на тумбочке, у постели. Слабый свет очертил его симпатичное лицо, которое глядело на Адас одним глазом, большим и голубым. Поверх глаза виден был высокий лоб, над которым петушиным хохолком курчаво вились светлые волосы. Рука его держала на поводке пса, и он сказал, глядя в стенку:
«Меня зовут Иона».
Адас опустилась в кресло и долго смеялась. В лице парня что-то сдвинулось, он выглядел удивленным, отпустил поводок. Боксер бросился к Адас и положил передние лапы ей на колени. Он оттолкнула его, закричав, и парень позвал пса:
«Кишта!»
Пес убрался, Адас поднялась с кресла и перестала смеяться. Парень настороженно смотрел на нее. Может, она оскорбила его своим истерическим смехом? Как объяснить ему, что смеялась она так, ибо душа ее исходила слезами? Кто он вообще? Один из многих, тянущихся хвостом за Мойшеле, потому что он любит друзей – мужчин. Сказала, извиняясь:
«Тебя удивил мой смех?»
«Точно».
«Из-за Мойшеле?»
«Что, из-за Мойшеле?»
«Когда он говорил мне о тебе, я решила, что ты девушка».
Тут он повернулся к ней всем лицом. Извиняющаяся улыбка появилась на ее губах. Щека, которую он до этого момента скрывал от нее, была обожжена и пересечена шрамом. Только полные губы соединяли две половинки лица – красивую и уродливую. Смотрела на него Адас в страшном смущении, не зная, куда себя деть. Он улыбнулся, провел здоровой мускулистой рукой по раненой щеке, сказал:
«Обычный египетский снаряд».
«Ничего страшного».
«Кто сказал, что это страшно».
Глубокий его бас связывался лишь со здоровой частью лица и голубым глазом. Адас опустила глаза, и пальцы ее перебирали длинную косу. Свет лампочки окружал ее ореолом, и синяки на ее руках, и царапины на шее умаляли ее красоту. Друг Мойшеле смотрел на нее с большим вниманием, и спросил:
«Дорожная авария?»
«Почти изнасилование».
«Ехала попутной?»
«Да».
«Что-то с тобой случилось?»
«Ему не удалось».
«Ну и отлично».
Попыталась снять смущение легким смехом, но ничего у нее не вышло. Пришли слезы. Долго сдерживаемое чувство обернулась плачем. Он приблизился к ней и коснулся рукой разорванного на груди ее платья. Он понял ее испуганное движение, и сказал:
«Сейчас для тебя важнее всего стакан горячего кофе».
«Помоги мне».
«Моя кофеварка помогает всегда».
Он пошел в кухню широкими уверенными шагами. Энергичный парень этот друг Мойшеле. Комната словно бы опустела, и Адас смотрела на дверь, за которой он исчез. Затем глаза ее стали осматривать комнату Элимелеха. Ничего здесь не изменилось с того момента, когда она была в этом доме с дядей Соломоном. Мойшеле ни разу ее не привел сюда, и не показал ей нарисованные им в детстве на окнах раковины. Запах застарелой пыли на вещах опахнул лицо Адас. Две кровати, покрытые арабскими коврами, низенькие скамеечки, на письменном столе скрипка и чернильница с давно высохшими чернилами. У стен – странной формы скульптуры Элимелеха. Животные и люди, вырезанные из древесных корней. По углам паутина, старая метла и пара ботинок без шнурков, и от всего несет специфическим запахом переулка Элимелеха, только, что серо-голубой цвет здесь, в комнате обрел желтый оттенок.
Адас чувствовала, что Мойшеле стоит рядом, проводит рукой по синякам и царапинам, и даже ощущала боль от его прикосновения. Мойшеле смотрит на ее разорванное платье, и запах мужчины, который надругался над ней, доходит до него. Он отворачивает от нее лицо, движется к скульптурам Элимелеха, тонет в облаке желтого света и исчезает. Раздается звук скрипки, брошенной на столе, звук расставания с Мойшеле, от которого остался лишь желтый свет, и пыль, и омерзительный запах, идущий от ее тела.
«Можно помыться в душе?»
«Пожалуйста».
Иона принес полотенце и положил на ее плечо. Вел себя, как беспокоящийся и заботливый отец. Больше не старался скрыть от нее раненую щеку. Его доброе настроение и сердечность покорили ее. Все было естественно и понятно, и он сказал:
«В этом доме все наоборот. Из голубого крана идет горячая вода, а из красного – холодная».
В душевой – зеленые пятна плесени на стенах и потолке. Смешались все запахи – плесени, мыла для бритья, влажных полотенец, грязных носок и кофе – из кухни. Горячая вода хлестала прямо из трубы, приятно обдавая струями все тело. Она даже язык поскребла и промыла водой. Вытерла полотенцем всю себя, взяла платье, увидела омерзительное грязное пятно, отшвырнула, в отчаянии огляделась и увидела в углу военную форму, вероятнее всего, Мойшеле. Надела гимнастерку и утонула в ней до самых колен. Затем закатала рукава, расчесала волосы, увидела себя в зеркале в том самом серо-желтом свете переулка, и стало ей легко на душе.
Вошла в комнату, легла на постель, и пес кружился возле нее. Адас любила животных, но этого пса Мойшеле ненавидела всей душой. А теперь положила руку на его спину, почесала его затылок и почувствовала, что примирилась с ним. Голос Ионы из кухни словно бы смешался теплом, идущим от боксера.
«Сколько сахара?»
«Одну ложечку».
«Я тоже кладу одну».
Вернулся Иона из кухни, окутанный запахом кофе, и в руках его кофеварка, чашки, лепешки, маслины и сыр. И нес он это все как жонглер.
Увидел ее, лежащей в гимнастерке, и сказал:
«Моя форма тебе подходит».
«Твоя?»
«Чему ты так удивилась?»
«Что ты в армии».
«Я – штинкер».
«Кто ты?»
«Не знаешь, что в армии так называют тех, кто служит в разведке?»
«Откуда я могу знать?»
«От Мойшеле».
«Он мне ничего не рассказывает».
«Такой он».
Иона разложил на скамеечке еду, налил кофе в чашки и приготовил ей лепешку с сыром. Все это он делал молча, не отрывая взгляда от ее босых скрещенных ног и влажных волос, обрамляющих ее лицо. Так и сидел на скамеечке у постели, и аромат кофеварки заполнял пространство между ними. Сидели они, отрезанные от мира, за плотно закрытыми окнами, рисунками, в желтом свете лампочке, усиливающей красоту Адас. Иона смотрел на нее, не отрываясь, и не притронулся к кофе.
Вот, она, сидит напротив него, как романтическое приключение, еще более красивая, чем рисовалась в его воображении по рассказам Мойшеле, и красота ее воплощает всё, что дано было ему в прошлом, до того, как египетский снаряд изуродовал ему лицо. И, быть может, говорит он в душе своей, можно жить во имя такой красоты, сидеть на скамеечке и смотреть издалека на красивую женщину, и ощущать горячее чувство счастья. Сидя, он повернул к ней уродливую сторону лица, чтобы не видела в здоровой половине его возвышенную душу, но она ощущала его волнение по чашке, которая дрожала в его руке, обхватила свою чашку двумя руками и сказала:
«Кофе просто чудо».
«Я говорил тебе».
Голос солдата дрожал, и он повернул к Адас все свое лицо. Удивление и обожание сверкали в голубизне его глаза. Он и ни скрывал этого, и она спросила его в смущении:
«Ты холост?»
«Как раз женат».
«И живешь здесь?»
«Решил идти своей дорогой».
«К Мойшеле?»
«Мы друзья».
Молчали. Кофеварка опустела, лепешки были съедены, и крошки рассыпались в постели. Иона отодвинул посуду, и они сидели близко друг от друга, лицом к лицу, она на постели, он на скамеечке. Он обнял ее ноги, и она положила руку на дрожащее тело пса. Страдания тяжкого этого дня словно бы отдалились от нее. Смотрела на Иону, и облик его сливался со скульптурами Элимелеха, лицо – с раковинами, нарисованными рукой Мойшеле. Оба они, Адас и Иона, словно бы плыли по невидимым волнам, которые текли между ними и уносили их в неизвестную даль. Иона здесь гость, и она здесь гость, а хозяин дома – Мойшеле. Может, он вернется сюда ночью? Страх снова закрался ей душу. Ни за что не хотела видеть его после этого тяжелого дня. Эта ночь – ночь Ионы. Но надо встать и уходить, и так ей этого не хотелось. Испугано посмотрела на часы. Уже шесть вечера.
Иона проводил ее взгляд, и тоже испугался. Только бы она не ушла! Как заставить ее остаться? И вечер, и ночь, и завтрашний день, и вовсе не для того, чтобы она встретилась с Мойшеле. Только бы не ушла! Как он останется в одиночестве после этого тепла, которое пробудила в нем ее красота, заставив забыть горечь своей судьбы? Впервые после ранения он ощутил свободу, которую несло ему его уродство, свободу отталкивающей его внешности. Он может ей сказать все, что хочет только потому, что он такое чудовище. Он мог говорить обо всем, даже о том, что хотел бы ее любить. Все равно ведь она никогда не будет ему принадлежать. Эта женщина вне его жизни. Если она даже захочет его, не доберется до него. Он свернулся в своей уродливости, замкнут в своем мире калеки. Осталась у него лишь свобода открыть рот. И слова сами вышли из его уст:
«Останься».
«Я должна идти».
«Почему должна?»
«Должна».
«Из-за Мойшеле».
«Из-за этого тоже».
«Он ни в чем не будет нас подозревать».
Она поглядела на него в изумлении. Голубизна глаза была влажной и полна была ее обликом. Она словно бы окунулась в этот любящий взгляд, и не могла от него оторваться. С большой печалью сказала:
«Правда в том, что я и не хочу встречаться с Мойшеле».
Встала. Высокая и тонкая ее тень обрисовалась на полу, отогнав желтый свет лампочки. Иона обнял рукой эту тень, и оба следили за их обнявшимися тенями. Он не скрывал своих чувств и взглядом пытался ее остановить. Но она уже пошла в душевую и вдруг закричала:
«Что мне делать?»
«Что случилось?»
«Платье мое абсолютно грязное».
«Купим новое».
«У меня ни гроша».
«Деньги это не проблема».
«Я тебе верну».
«Мойшеле вернет».
«Не смей ему рассказывать!»
«Ладно».
«Я верну тебе эти деньги».
«Все будет в порядке».
Она вернулась из душевой в грязном изорванном платье, прикрыв косой разрыв на груди. Стояла посреди комнаты и не приближалась к двери, которую заслонял Иона своим огромным широким телом, готовый сделать все, чтобы ее не отпустить, и даже уверить ее, что будет жить лишь ради нее. Вместе с тем, он знал, что не остановит ее и жить для нее не будет – она пойдет своей дорогой со своей красотой, а он останется здесь, одинокий и пришибленный. Подал ей сумку и сказал:
«Положил тебе в сумку немного денег».
Вместе дошли до ворот, стояли, оглядывая каменные фигуры Элимелеха, перекидываясь незначащими словами. Темнота скрывала их печальные лица. Сошел вечер, проглотил пыль со стен и прикрыл трещины старых домов. Сумрак, подобно волшебнику, вернул переулку чары его древности. Иерусалим вокруг словно бы и не прикасался к ним. Светящиеся рекламы подмигивали издалека, из другого мира, в эту старость, вовсе им не желанную, и шум проспекта, проходящего совсем рядом, тоже казался смутным и далеким. Одиноко стояли они в безмолвном переулке, где звучал лишь голос Ионы:
«Еще немного, и вся магазины закроются».
«Ну, и что?
«Платье».
Он легко прикоснулся к ее локтю, она кивнула головой. Пожали друг другу руки, и она пошла своей дорогой, оставив его стоять у ворот. Сандалии ее постукивали в тишине переулка. Остановилась на миг и повернулась к нему. В темноте помахала ему рукой, и он ответил ей тем же жестом, но оба не различили этих движений. Сразу же ускорила шаги и скрылась за поворотом, а Иона стоял еще битый час, вглядываясь во мрак, проглотивший Адас.
Вынырнула она из темноты и попала в другой мир. Ее окружали высокие здания, ослепляющие множеством огней, роскошные магазины, толпы текли по тротуарам и машины потоком ползли по мостовой. Центральная улица Иерусалима. Зашла Адас в небольшой магазин одежды. Выбрала белое платье и купила его. Свое же, грязное и разорванное, оставила в примерочной кабинке. Приближалось время закрытия магазинов. В витрине одного из дорогих магазинов приглянулось ей красное платье весьма смелого покроя с глубоким вырезом, отливающее красноватым оттенком меди. Разглядывала она ее, говоря в голос:
«Это мое новое начало».
Мойшеле начал новую жизнь с отъезда за границу, она – с этого платья устремится к сияющей, городской Адас. Вошла в магазин, но продавщица не хотела снимать платье с витрины, ибо время приблизилось к семи. Адас настаивала, и тут чей-то голос пришел ей на помощь:
«Принеси ей это платье».
Курчавый молодой человек с черными глазами смотрел на нее. Их отражения взирали на них из окружающих зеркал. Парень улыбнулся ей, и она ответила ему улыбкой. Когда, надев платье, Адас приблизилась к большому зеркалу, он уже стоял возле него. Платье прилегало ее телу и настолько выделяло фигуру, что Адас почувствовала себя обнаженной перед мужчиной. Плечи ее были открыты, и платье держалось на шее тонкой тесемкой. Оно было настолько узким, что только длинный разрез сбоку позволял ей двигаться. Глаза парня, в изумлении ощупывающие взглядом ее фигуру, встретились с ее глазами в зеркале, и он сказал:
«Сандалии не подходят».
Сбросила сандалии и почувствовала подошвами ног мягкость ковра. Приятен ей был взгляд парня, который откровенно выражал восхищение:
«Позвольте мне».
Он взялся за ее длинные волосы. Руки его были осторожны, но лицо решительно и глаза дерзки. Расплел косу, и тотчас из зеркала на нее взглянула новая и совсем другая Адас: прекрасная женщина, госпожа, с высоким лбом и узким лицом, сверкающие глаза которой сливались с блестками платья. Хотела улыбнуться этой женщине в зеркале, но не решилась, боясь нарушить новый лик каким-либо движением. Приказывала госпожа Мойшеле приблизиться к ней и поцеловать ей руку, и он коснулся губами ее пальцев. Хозяин магазин суетился вокруг нее, пользуясь, то тут, то там скрепками, затем разогнулся, оглядел Адас как некое свое произведение и сказал:
«Фантастика!».
Рука его скользнула в зеркале по ее фигуре. Испугалась, увидев перед собой лицо водителя в роще, у источника, глаза его, требовательные и страстные. Хотя глаза молодого человека и руки его, касавшиеся ее обнаженных плеч, должны были ей помочь совершить бросок в желаемый ею мир, она вдруг осознала, что магазин пуст, она одна с мужчиной, руки которого на ее плечах, и совсем потерялась от страха. Нажал парень на ее плечи, усмехнулся, указал на синяки и сказал, подмигнув:
«Муж или любовник?»
Адас быстро освободилась от его рук, убежала в кабинку, тяжело дыша.
Теперь она знала, что никогда не бросится в новую, другую жизнь, не будет плыть по бурным волнам, а останется навсегда в замкнутом своем мире. И, словно сдавшись собственной судьбе, опять облачилась в скромное белое платье. Красное, лишенное стыда, переливающееся блестками платье перебросила через руку. Хотела вернуть ее хозяину магазина, но тут же взбунтовалась, и решила, что не отступит и не смирится, а развернет паруса и поплывет по иному морю в иное место. Выйдя из кабинки, протянула с холодным высокомерием отливающее медью платье молодому человеку и потребовала завернуть покупку. Вышла на быстро пустеющую улицу. В ночном небе рассеивались облака хамсина, высыпали звезды. Изящная и хрупкая, грустная и замкнутая, шла Адас к дому своих родителей.
Смотрит Адас на дверцу шкафа. Висит рядом с военной формой Мойшеле, платье, отсвечивающее медью, платье тяжких ее ночей. Закрывает объемистое письмо своего мужа дяде Соломону. Напряжение сна на грани пробуждения виснет между тенями, заполняющими комнату, и тишина вокруг Адас враждебна.
Ушел Мойшеле, пришел Рами.
В тот день, прежде чем она встретила его во дворе кибуца, прокрался Рами в ее мысли. Осенние хамсины были тяжкими, замедляющими ритм жизни. Даже раскаленный ветер дул, казалось, с трудом. Казалось, даже горы молились о пощаде и просили первого дождя. С утра небо было покрыто туманом, но к обеду облака рассеялись. Это была первая осень без Амалии.
Удушье и сухость затрудняли дыхание, и Адас без конца пыталась откашляться. Соломон сидел напротив нее в кресле. Последние лучи солнца исчезали за горой, оставляя на стенах комнаты пятна размытого света. В эти часы двор кибуца наполнялся шумом голосов. Семьи располагались одна рядом с другой на траве, пили кофе, жевали печенье и пироги. Из транзистора доносилась песня, голос ребенка смешивался с лаем собак, трещал трактор, и мотор автомобиля отвечал ему сердитым баритоном. Из всей этой смеси звуков возник один ясный голос, заглушил речь Соломона, и Адас перестала слушать дядю. Женский голос рассказывал кому-то о числе «три», которое подчинило себе чью-то жизнь:
«Шула, которая живет на улице Третьей, в доме номер три, была незамужней до тридцати трех лет. Поехала Шула в Канаду искать жениха, встретила там холостяка-израильтянина сорока трех лет, они полюбили друг друга, поженились, вернулись в Израиль. И теперь они проживают по улице Третьей, в доме номер три…»
Обернулась буква «Т» подобием вил, приподнявших Адас, и тут же изменила конфигурацию, превратившись в одну долгую линию, подобно столбу, несущему электрические провода, видимому в окне Соломона. Адас посмотрела на верхушку столба, где провода были подобны воздушным мостикам, затем перевела взгляд вдаль, пока не увидела дум-пальмы, и тут возник голос Рами:
«На нас троих положил глаз наш командир отделения. На Эрана, потому что он чемпион по боксу среди молодежи команды «Апоэль» в Натании, а командир отделения не любит мускулистых парней. На Мойшеле, потому что он – Мойшеле, и даже на офицерских курсах не перестал быть Мойшеле, и я – потому что все добрые вещи идут по три».
Сидели они тогда под этой пальмой, с овцами. Она, уставшая от любви и полдневного жара, дремала, прижавшись к Рами, чуб которого и борода были растрепаны, волосатая грудь – обнажена. От тела его шел запах овец. Она рассмеялась и сказала:
«Можно представить тебя козлом в стаде».
Тут же он начал рассказывать о Мойшеле. Так он всегда вел себя с ней. Как только она заостряла свои сравнения, он тут же мстил ей историями о Мойшеле, словно вызывая его дух в тот момент, когда она всеми силами стремилась его забыть.
«Нас троих командир отделения третировал при любой возможности, а Мойшеле больше всех. Однажды зимой вернулись мы с маневров, ноги стерты до костей. Мойшеле прохватил понос, и он окопался там, где можно было окопаться, а командир отделения за ним, и оба в одной уборной, говорят между собой через щели в перегородке. Командир отделения орал, что Мойшеле убежал, хотя не было команды – «Разойдись». Наказал. Всю ночь Мойшеле стоял у столба, как распятый Иисус».
«Его что, привязали к столбу?»
«Ну, ты уж совсем. Только приказано ему было петь всю ночь».
«Всю ночь!»
«Нечего тебе беспокоиться, малышка. Несмотря на его пение, мы все заснули».
«И ты не пришел ему на помощь?»
«Ему на помощь? Если бы даже посадили меня на верхушку столба, я бы тут же заснул».
«Добрая душа».
«Жалеешь Мойшеле?»
«Представь себе».
Замолк голос за окнами Соломона. И звучавший в памяти голос Рами замолк. Сумерки сошли на кибуц, и темнота в комнате Соломона сгустилась. Отвела Адас взгляд от столба и вернулась к речи Соломона, голос которого был медлителен, подобно каплям из плохо закрытого крана. Битый час она слушает его. Кофе выпила, и пора ей встать и уйти. Но надо же идти туда, где на кресле лежит красное платье. С момента, как она вернулась из Иерусалима, не прикасалась к нему. Перестала следить за собой и ходила непричесанной. Не ускользнула от ее внимания враждебность членов кибуца после того, как она внезапно оставила работу в кухне. Вернулась-то она на следующий день, но не отвечала на бесчисленные вопросы, касающиеся ее странного поведения. Из-за упрямого ее молчания не нашелся ни один, поддерживающий или защищающий ее, за исключением дяди Соломона. Он верен ей, и дает ей мудрые советы:
«Забудут, детка. В кибуце все забывается. И хорошее и плохое».
Негромкий голос и любящие глаза дяди отдалились от нее, не касаясь ее ни словом, ни взглядом. Со дня, как она сбежала из кибуца в Иерусалим, и затем вернулась, она замкнута в каком-то, можно сказать, бесхозном пространстве, где нет ни Адас, ни иного человеческого существа, никого и ничего. Равнодушна она ко всему, глуха к окружению. Ни испытывает обиды или ущерба ни от какого-либо чувства или боли. В этом пространстве нет Мойшеле, нет насильника, нет ничего. Единственный Рами, соблазняющий и велеречивый змей, тайно проскользнул в травах и ворвался в ее запертый сад. Но она вырвалась из его объятий и вернулась в то свое привычное одиночество. И взгляд ее скользил по стене, дошел до старого глиняного кувшина Амалии, остановился на нем. Голос Соломона теперь раздавался из него, как колокол, который утонул в глубине кувшина, и сейчас доносится до нее смутными звуками.
«И я как-то так вот встал и сбежал. Но, что верно, то верно: не из-за этого на меня сердились в кибуце. В те дни бегство из кибуца было нормальным явлением. Убегали, возвращались и снова убегали. Никто никого за это не обвинял. Сердились на меня за то, что я ушел искать Элимелеха».
«Ты сбежал, чтобы найти Элимелеха?»
«Именно».
«Тебе это просто так захотелось?»
«Ну, не просто так, детка, ни в коем случае просто так. Я тоже был сторожем в ту ночь. Четвертинка луны как-то уж очень печально светилась. Небо было черным, как пропасть. Кибуц в те дни составляли всего лишь несколько палаток и бараков. Окружены были забором и настораживались при каждом легком шорохе. Слышится кашель, и все знают, кто это кашляет. Скрип кровати, и всем известно, кто скрипит. В те дни еще слышали дыхание кибуца. И я один в этом квадратном дворе, в центре которого заросли с гнездом голубей. Вот, ребенок заплакал. Тогда у нас родились первые дети. Пошел я к детскому бараку, осветил плачущего ребенка фонариком. Я очень любил наблюдать за их такими естественными движениями, любил сгустившиеся запахи в детском бараке. Запах роста, запах полей и земли, впитавших пот. Это присутствие в детском бараке ночью было для меня как день работы в поле. Это было и вправду чудесно».